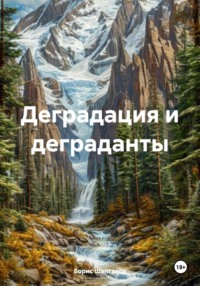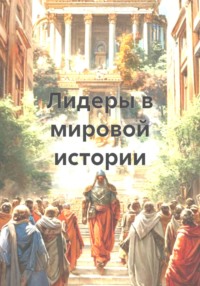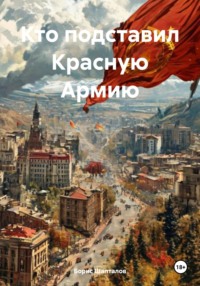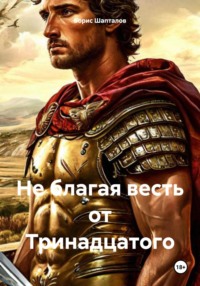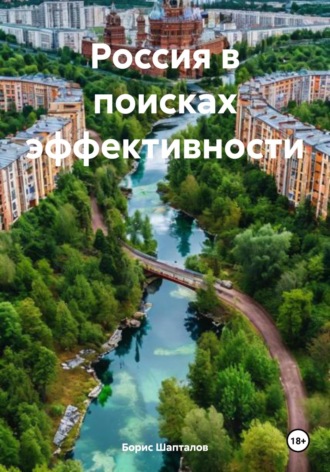
Полная версия
Россия в поисках эффективности
* * *
Что понимать под цивилизационным кодом и цивилизационной матрицей?
Общество состоит из групп, имеющих определенные обслуживающие данный социум функции. Фермеры производят продовольствие, рабочие (ремесленники) – предметы потребления, управленцы занимаются налаживанием производства и обмена товарами, созданием инфраструктуры, интеллектуалы обучением и формированием духовной культуры и т.д. В совокупности это называется социальными отношениями. Они не являются механическим отражением взаимоотношений общественных групп. Как человек растет, испытывая влияние не только окружающих его людей, но и скрытого в организме генетического кода, так и у любого общества есть скрытый механизм жизнедеятельности.
Способ производства придает кочевникам особые черты жизнедеятельности, включающие в себя психологию этноса (менталитет), культуру, характер власти. В индустриальном обществе иная культура и психология жизни. Поэтому К.Маркс поставил способ производства и распределения в основу своего знаменитого учения. Но оказалось, из наличия одного способа производства может получиться демократические США и нацистская Германия. Получается, что помимо способа производства есть другие факторы. Они тоже известны. Это культура и накопленные исторические традиции. Они влияют на психологию управления и мировоззрение интеллектуалов, создающих своеобразное руководство к действию – государственную идеологию. Остается предположить, что совокупность из способа производства, культуры и менталитета формирует социальный генотип, который можно назвать цивилизационным кодом.
Цивилизационный код скрыт от глаз, как невидимы гены человека, но он определяет параметры жизнедеятельности общества, за которые можно выйти лишь ценой серьезной и затратной структурной перестройки, иногда вплоть до кровавой революции. Но при этом надо знать, что и как перестраивать, иначе получится результат вроде перехода от советского общества к «либеральному» в России и на Украине. В Средней Азии оно завершилось победой задавленного старого, родоплеменного, цивилизационного кода. В Прибалтике возобладал цивилизационный код буржуазного общества европейского типа. То есть, все вернулось на круги своя. Коммунистической партии не удалось сформировать свой цивилизационный код по той простой причине, что коммунистический способ производства оказался фикцией, нереализуемой мечтой. Все эти «диктатура пролетариата» и «ведущая роль рабочего класса» не смогли воплотиться в генотип из-за своей утопичности. И власть, а вместе с ней и общество, откатилось на привычные позиции. В России это двуцивилизационный код – сочетание «европейства» и «азиатства». Потому так важно изучать историю России, чтобы понимать как сказывается цивилизационный код, как работает цивилизационная матрица, и что нам ожидать в будущем от этих факторов.
Матрица – это своеобразный образец, с которого снимают копии. Но в социальном мире копии» не могут быть одинаковыми, они не могут не изменяться под давлением общественных перемен. Тоталитаризм XVI века не будет под копирку воспроизведен в XX веке, но при этом, несмотря на огромную историческую дистанцию, будут воспроизведены общие типологические черты. Ту же картину мы наблюдаем с радикальным исламом в XXI веке. Несмотря на все колоcсальные технологические перемены, исламские экстремисты воспроизводят средневековье. Точно также демократия феодального общества не будет похожа на демократию индустриальной стадии, но опять же сущностные черты сохранятся.
Это проявляется постоянно, но обычно на эти факты не обращают внимание. В США почти все новации в сфере компьютеров и программного обеспечения создавались в домашних условиях группами энтузиастов. Из «гаражей» вышли «Майкрософт», «Интел», «Эппл» и т.д. А в СССР все попытки развязать инициативу снизу в виде общественных конструкторских бюро, комсомольских научно-технических обществ и пр. закончились неудачей. Работало только то, что финансировалось государством. Мало что изменилось с приходом рынка, хотя появились несколько успешных проектов, начинавшихся на «любительском» уровне (в сфере Интернета главным образом), но американский уровень остался недостижим.
В цивилизационный код США неотъемлемой частью входит индивидуализм и личная предприимчивость, выкристаллизовавшая в период вековой колонизации Северной Америки. В России цивилизационный код включает бюрократический централизм и направляющую роль власти, без чего социальные подсистемы становятся малоэффективными.
Цивилизационный код и цивилизационная матрица – основные понятия, которым можно найти другие названия, но это то, что проявляет себя с силой социологического закона.
Возникновение проблемы «Россия на перепутье Восток-Запад»
На Руси цивилизационные отличия от передовых стран Европы впервые отчетливо проявились после тесного сожительства с Ордой. Политическая культура по многим аспектам оказалась накрепко связанной с «азиатским» цивилизационным кодом. С возникновением этого фактора у самобытников в России появилась объективная почва для разработки теорий евразийского («русско-азиатского») направления.
Что произошло с Северо-Восточной Русью в ХIII-XIV вв.?
Отношения Московской Руси и Орды не ограничились внешней политикой. В ходе ожесточенной борьбы внутри правящего класса Северо-Восточной Руси произошло усвоение особых методов управления, присущих империи Чингизидов. Это было естественным явлением, потому что Золотая Орда являлась политическим и военным лидером в этом географическом районе до ХV века. А заимствование соседями сильных (на взгляд современников) сторон лидера-победителя присуще во все времена. Вот только у Руси это заимствование зашло так далеко, что произошла трансформация социального генотипа.
Московская Русь переняла «восточный» или «азиатский» код цивилизационного существования, суть которого состоит в трех неразрывных компонентах: 1) внеэкономического механизма мобилизации ресурсов государством, называемого в науке редистрибуцией, 2) политической системы властвования, определяемой понятием деспотия и 3) особого политико-экономического механизма распоряжения производительным богатством власть-собственность.
Редистрибуция есть совокупность разнообразных способов внеэкономического принуждения к труду и перераспределения прибавочного продукта в таких формах, как рабство, феодальная барщина, государственные военно-экономические повинности, вроде дани. Редистрибуция позволяет обходиться без экономических отношений в таком важном для власть имущих деле, как концентрация в их руках необходимых для целей правящей элиты материальных ресурсов. Особенно это необходимо при ориентации правящего класса на постоянную военную конфронтацию с соседями, что предполагает поддержание постоянной мобилизационной готовности государства и широких слоев общества.
Деспотия есть абсолютистская власть, выполняющая свои управленческие функции вне рамок юридических законов и контроля со стороны общества.
Власть-собственность подменяет владение и распоряжение частной собственностью «общественным» владением. От имени общества распорядителем выступают властвующие группы, которые распоряжаются прибавочным продуктом той части производительных сил страны, на которую простираются их властные функции. Это может быть государственная собственность, которой распоряжается бюрократия, или собственность Бога, и ею распоряжается церковь, или общинная собственность, которую контролирует «мир». Все способы владения объединяет одно свойство: распоряжение производительными силами осуществляется с «отключенным» механизмом конкуренции и без четкого правового регулирования экономических процессов. Поэтому в «восточном обществе» огромную, заменяющую право, роль играют традиции, а также сила власти.
Золотая Орда и империя Чингисхана исчезли, оставив след в истории, в описаниях летописей, прежде всего, как военные государства-завоеватели, грабившие народы. Развитое летописание в среде завоеванных народов спасло эту военную державу от забвения, как это произошло с военными союзами других кочевников – гуннов, аваров, эфталитов… Их политико-экономический механизм блокировал их развитие и не содержал главное – возможность ощутимого прогресса.
Александр Невский, выбирая курс на союз с Ордой, в конечном счете, способствовал изменению будущего страны. Новый генотип развития объективно способствовал утверждению на Руси монархии «восточного», т.е. деспотического, типа, что привело к утверждению особого варианта крепостничества, уничтожившего не только экономическую независимость крестьян, но и личную. И дело не в степени жестокости режима, как это иногда представляется и потому некоторые авторы горячо доказывают, что власть средневековых западных государств была даже более жестокой, чем в московском царстве. Суть дела в другом. Преобладание того или иного типа цивилизационного кода «обрекает» государство и общество на определенный уровень качества управления и обусловленную социальным генотипом направленность его действий. Поднять эффективность выше некой объективно присущей данному социуму планки и перебороть инерционность государственного мышления в рамках существующего «кода» практически невозможно. Можно провозглашать и затем трудолюбиво проводить некие реформы, с большим или меньшим толком имитирующие чьи-то образцы, выгонять чиновников и заменять их другими, все равно «выше головы» прыгнуть не удастся. Система, рассчитанная на определенный ресурс и социальную скорость, будет работать так, как она может. Вол не станет скакуном, ибо рожден для другого. Можно, хлестая, заставить его бежать, но все равно вола хватит не надолго.
Русь-Россию спасло от судьбы Золотой Орды то, что помимо «азиатского» цивилизационного кода задолго до него сложился и дал великолепные культурные и экономические результаты другой цивилизационный код, другая цивилизационная матрица – «европейская». Последующий трагизм ситуации состоял в том, что оба кода и их производные цивилизационные матрицы, с которых шло дальнейшее воспроизводство экономических и политических порядков, сосуществовали, переплетясь вместе.
Сложившийся на Руси хозяйственный механизм внеэкономического отчуждения прибавочного продукта процветал до 1861 года. Из века в век к крестьянам-крепостным применялись принципы взимания ордынской дани. Только баскаками теперь выступали помещики. Отсюда и пошло «управленческое своеобразие» России и ее «особый путь». Пока в Европе также хватало пережитков «азиатчины» (та же редистрибуция, превалирование силы властителей над законом), Московская Русь наряду с Османской империей или Ираном выглядела не хуже Англии и Франции. Но когда большая часть Европы перестроилась на новые методы управления, вытекающие из требований развитого рынка и начавшейся индустриализации, Россия вместе с другими «азиатскими» государствами безнадежно «провисла».
Если бы в обществе и в правящем классе полновесно утвердилось понимание Петра I о необходимости осознанно и целенаправленно видоизменить старый «ордынский» социальный генотип на «европейский», то Россия в дальнейшем эволюционировала бы подобно многим другим государствам, вынужденным менять свой цивилизационный код (та же средневековая Германия, например). Однако корни «самобытничества» оказались намного глубже и цепче, и Россия осталась в рамках «азиатского» цивилизационного кода.
* * *
Существует другие объяснения причин складывания деспотического по характеру правления на Руси и, соответственно, другие предположения по дальнейшему развитию государства и общества. Приведем некоторые образцы альтернативного осмысления судьбы России.
В 1980-е годы тремя изданиями, что для того времени было крайней редкостью, вышла нашумевшая в заинтересованных кругах книга-исследование Ф.Ф. Нестерова «Связь времен». То было одно из первых легальных работ на тему «Восток-Запад» лежащего вне официозного русла. Работа Нестерова стала предтечей многих современных книг, рассматривающих проблемы России с «державно-патриотической» точки зрения. Позиция автора примыкала к «почвенничеству», потому книга вышла в издательстве «Молодая гвардия». Хотя идеологическая власть особо не жаловала «почвенников», но для книги этого историка сделала исключение. Ей понравилось то, как Ф. Нестеров объяснял перманентные трудности развития России. Например, такое: «Вправе ли серьезный исследователь… игнорировать тот колоссальный по своим последствиям факт, что Россия в течение всей своей многовековой истории жила в режиме сверхвысокого давления извне..? Нет, не вправе… Ни один из них (западных исследователей – прим. Б.Ш.), насколько нам известно, не потрудился сопоставить силу внешнего давления на Россию с подобной же силой, воздействовавшей на судьбу их отечества или, вообще говоря, на историю любой державы Запада. А жаль: исходя из разности таких величин, можно было бы проследить как одни и те же законы исторического развития проявлялись в различных формах на западе и на востоке Европейского континента. Только в этом случае и можно было сказать что-то дельное и об особенностях русской истории, и об истинных линиях преемственности, проходящих через нее, и о подлинном значении исторического наследия, полученного советским народом» (11. С.11, 12).
Постановка вопроса о полученном наследстве справедлива. Она вечна в том смысле, что новые поколения будут стоять перед той же проблемой: как использовать полученное наследство со всеми его плюсами и минусами, и что они, в свою очередь, передадут своим потомкам. Зато версия о каком-то особом, сверхмощном давлении извне на Россию, которое Европе и не снилось, хотя она и попала в школьные учебники истории, не подтверждается историческими фактами. И раз степень давления извне не измерили западные историки, сделаем это здесь. Вот краткая сводка войн России.
Самым первым серьезным ударом, конечно, было нападение монгол. На Русь кочевники нападали и до них, но удары печенегов и половцев ограничивались окраинные территориями, хотя несколько раз кочевники доходили до стен Киева. Однако делали они в основном в союзе русскими князьями, боровшими за власть между собой, и лишь монголам удалось установить свое господство над восточной частью Руси. Но опять же продолжительность господства Орды определялась не столько ее силой, сколько позицией правящей верхушки северо-восточной Руси, не сумевшей достигнуть единства и избавиться от ордынского господства, когда Орда ослабла. Золотая Орда не трогала Русь до союза с Александром Невским, а затем не проявляла военной инициативы за исключением похода Тохтамыша в 1382 г. и набега Едигея в 1408 г., – не было надлежащих сил. Но сами князья «заботились» о том, чтобы она ее не забывала, приводя ордынские отряды для участия в своих междоусобицах. Поэтому Северо-Восточная Русь освободилась от доминирования Орды позже всех: Китай, Закавказье и западная часть Руси сделали это на сто лет раньше – в XIV веке.
После запоздалого уничтожения вассальной зависимости от Орды в 1480 г., Московско-Русское государство превратилось в наступательную силу. Оно само определяло время и направление ударов. Так было при захвате Поволжья и Сибири; оно же выступило инициатором Ливонской войны. Земский собор отказался от мирных предложений Литвы (1566) и высказался за продолжение войны, после чего литовский правящий класс пошел на объединение с Польшей.
Иностранное вмешательство в Смутное время было вызвано не какими-то давно вынашиваемыми захватническими планами, а реакцией на внутреннюю дезорганизацию политической и государственной жизни. К тому же, шведские отряды для участия в гражданской войне пригласило русское правительство, также как и польские после коронования на московское царство польского принца Владислава.
По окончании Смутного времени, в течение всего XVII века на Россию никто не нападал. Зато она объявила войну Речи Посполитой в 1654 году, стремясь воссоединиться с Украиной. А затем начала войну со Швецией. Точно также выбор времени и места начала Северной войны принадлежал русскому царю. Он же напал на Турцию в 1711 г., на Иран – в 1723 г. и пытался напасть на среднеазиатские государства в 1716 г.
Не Турция, а Россия атаковала ее первой в 1735 году. Не Пруссии, а Петербургу принадлежала инициатива участия России в Семилетней войне 1756-63 гг.
Русско-турецкие войны второй половины ХVIII века также к «внешнему давлению» не отнесешь. Российская империя стремилась к берегам Черного моря и вела активную наступательную политику.
Войны с Францией и Наполеоном также первой начала Россия в 1799 и 1805 гг., причем не имея никаких собственных целей, кроме помощи другим монархиям. В итоге получила ответное вторжение Бонапарта в 1812 году.
Крымской войне предшествовал ввод царских войск в придунайские княжества в 1853 году, которые само русское правительство неоднократно признавало неотчуждаемыми владениями турецкого султана. А уничтожение турецкого флота в порту Синоп не иначе как объявлением войны не назовешь. Россия ее и получила…
Минуем завоевание горного Кавказа и Средней Азии, которое опять же к внешнему давлению не отнесешь. Нападение Японии в 1904 году вроде бы можно отнести к «внешнему давлению». Но разве внедрение России в Маньчжурии отнесешь к естественному развитию? Там столкнулись два экспансиониста, один оказался сильнее другого. Не вина Японии, что «слабаком» оказалась царская Россия.
В 1914 г. Россия вступила в войну, стремясь помочь Сербии и первой вторглась в Восточную Пруссию и австрийскую Галицию.
Как видим, никакого особого давления извне за несколько после ордынских веков не было. Была обычная среди европейских держав борьба за влияние в других регионах. Так, Россия боролась за свое влияние с Англией в Средней Азии и на Кавказе. С Францией, Австрией и той же Англией на Балканах. И в целом успешно продвигалась на этих направлениях.
События ноября 1917 – марта 1918 гг. включают в себя отказ от умеренных мирных предложений Германии при одновременной демобилизации части российской армии и разложения дисциплины в остальной части – процесс, к которому приложили руку и большевики, и Временное правительство. Это спровоцировало Германию на то, чтобы воспользоваться уникальным шансом поправить свое незавидное военно-экономическое положение. Разве верхоглядство тогдашних правителей России следует отнести к разряду внешнего давления?
Во Второй мировой войне Гитлер напал на СССР, предварительно провоевав со всеми сколько-нибудь крупными европейскими государствами и полтора года спустя после начала мировой войны. До СССР Гитлер добрался в последнюю очередь. И даже эту ситуацию к какому-то необычному «внешнему давлению» не отнесешь, потому что другие крупные сопредельные государства, вроде Японии и Турции, остались нейтральными, а главные державы Запада – США и Великобритания – незамедлительно предложили Москве свои союзнические услуги.
Разрыв с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции и начало «холодной войны» во многом был спровоцирован наступательной политикой Сталина в Восточной Европе с целью привести к власти тамошние коммунистические партии. «Горячая война» в Корее была вызвана теми же причинами. Ким Ир Сен отдал приказ о наступлении, получив согласие Сталина.
Так о каком же «невиданном внешнем давлении» может идти речь? Нормальная история, не сравнимая, например, с историей Болгарии, Венгрии, Ирландии, Польши, Сербии, Чехии, которые неоднократно и надолго (на века!) теряли свою независимость. Россия же ни разу не была оккупирована, как это происходило с Францией (в 1814, 1870, 1940 гг.), Германией (1918, 1945 гг.), Японией (1945), унижена как Китай в XIX веке. И была осаждена не больше, чем Франция, веками зажатая между Англией, Испанией и Германией, или Италия, стиснутая между Францией, Австрией и Османской империей. Или Германией всегда вынужденная воевать на два фронта. Так что прибедняться нам не стоит. Другое дело, что свои болячки саднят больнее.
Настоящие трудности России были вызваны не внешними вторжениями или «внешним давлением», а ошибками, а то и преступными деяниями «родных» правителей. Вот за то, что Ф. Нестеров талантливо затушевывал эту особенность российской истории, он и получил благоволение от тогдашней власти, уверенно ведшей страну по пути… не к коммунизму, а к очередному краху государства. И не США и НАТО в том были виноваты.
Не было бы смысла касаться давней уже книги Ф. Нестерова, если бы она стояла в ряду сотен других посредственных идеологических изданий. Но книга по-настоящему талантлива и содержала много интересных, не утративших по сей дней наблюдений и выводов по философии истории Руси-России. Мысли, факты, выводы из книги Ф. Нестерова можно обнаружить в других работах соответствующего направления. Данное исследование стало своеобразной популярной квинтэссенцией векового спора на тему «Запад и Россия». В частности, в книге приводится интересное сопоставление «азиатскости» средневековой Европы и европейства России: «…и Западная Европа в конце концов сосредоточила в руках своих монархов абсолютную власть, и она при переходе от сословно-представительной монархии к абсолютной разрушила права сословий, отменила вольности городов и самоуправление провинций («земель»). В этом Россия далеко не оригинальна. Ее своеобразие в другом: в том, что, отставая от Запада в своем экономическом развитии, она сумела обогнать его в степени концентрации государственной власти» (11. С.44). Последнее замечание справедливо (но не в части «разрушила права сословий» и «отменила вольности городов» – это совершеннейшая неправда). Зато верно замечена особенность – сочетание отставания в экономическом развитии с превосходством в концентрации государственной власти, что станет «визитной карточкой» России на многие века, ее силой и слабостью, и предметом непрекращающихся споров. Эта неоднозначная проблема стоит перед Россией до сих пор и далека от своего разрешения, и, похоже, уже никогда не будет разрешена.
Историю России можно рассматривать под разными углами: с точки зрения классовой борьбы, простого хронологического описания событий или как-то еще. А можно рассмотреть с точки зрения вековых попыток найти меру между государственной концентрацией власти и гражданским развитием общества. На этом пути такая крайняя степень концентрации власти государства, как опричнина Ивана Грозного и сталинская система репрессий. Но и ослабление государства не раз оборачивалось его крушением. Впервые это произошло во время Смуты 1605-1612 гг. – первой гражданской войны на Руси. Второй раз – в 1917 г., открывшей путь к победе большевиков. В третий
– в 1990-е годы с разгулом преступности, казнокрадства и сепаратизма.
Получается, что на трагических переломах истории государственной власти не хватало как раз концентрированности, силы? Вот и бьются исследователи над вечной русской загадкой: то власти слишком много, и она душит свободное развитие общества, то она ослабевает настолько, что начинается анархия, которая также разрушает общество.
Можно в качестве дополнительного довода привести судьбу Александра II. Царь либерализовал режим, и начался народовольческий террор, чьей жертвой он стал. Пришел Александр III, закрутил гайки, и террор сразу утих. На престол взошел слабый Николай II и все вернулось на круги своя – возобновился террор революционеров и все в итоге закончилось гибелью и государства и самого царя. Так какая концентрация власти нужна России? И кто скажет, что этот вопрос носит сугубо историографический характер? Как был он животрепещущим, так и остался.
История России никак не желает носить узко академическую направленность. То, что закладывалось столетиями назад, настигает нас и бьет по загривку и сегодня. И разве мы ныне не делаем то же самое по отношению к потомкам? «Мин» в постсоветское время для будущего накидано предостаточно. Нашим детям и внукам хватит работы по их разминированию (и удастся ли им это сделать без больших жертв?).
Борьба с доставшимся прошлым – дело у нас привычное, одно беспокоит – эти проблемы успешно решены во многих странах. Оттого вновь и вновь всплывает тема: «Мы и Запад».
Ф. Нестеров сделал еще один вывод, который понравился власти, ищущей аргументы, оправдывающие ее деспотический характер. На нескольких страницах автор подводит читателя к следующему фундаментальному заключению: если на Западе феодалы долгое время могли позволять себе междоусобные войны и сторонники Алой и Белой Розы, гвельфы и гибеллины «могли самозабвенно, в полное свое удовольствие резать друг друга и мериться силами с короной, не ставя при этом под вопрос существование общества в целом, то Россия, эта огромная осажденная крепость, таких вольностей своему господствующему классу предоставить не могла, если только хотела жить» (11. С. 54). Конечно, историк академической школы не мог бы себе позволить классифицировать европейские феодальные войны, как «игры в свое удовольствие», боясь обвинений коллег в явной фальсификации или невысоком профессиональном уровне. Тем более что ожесточенная феодальная война была и на Руси при Василии Темном, примерно в ту же эпоху, что война Алой и Белой Розы в Англии, но у Ф. Нестерова, как и у многих его последователей, история рассматривается с публицистических позиций, поэтому здесь важно не явное упрощение, а генеральный вывод о том, что Россия многое себе не могла позволить (демократию, например), потому что перманентно находилась «в осаде». «В целом страшное и постоянное давление извне, осадное положение, превратившееся в обыденный образ жизни, общественные порядки, по необходимости воспроизводящие порядок полка, занявшего круговую оборону, сплотили класс русских феодалов вокруг царской власти с силой, неизвестной в других менее злосчастных краях Европейского континента» (11.С.55). Такими же примерно словами можно писать и о социалистическом государстве. Мол, СССР оказался в осаде, заняв круговую оборону от Кубы до реки Эльба и от Болгарии до Анголы и Вьетнама. Короче, ужас! Только спрашивается, как она, осажденная, оказалась в Латинской Америке. Африке и Индокитае? Ответа от историков типа Несторова не дождемся. Отмолчатся.