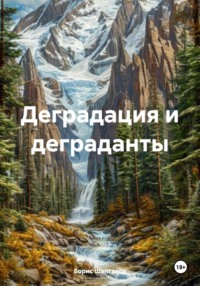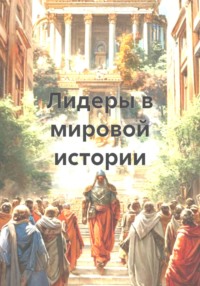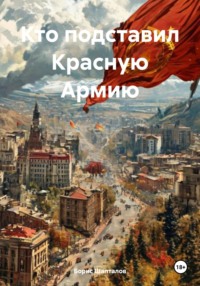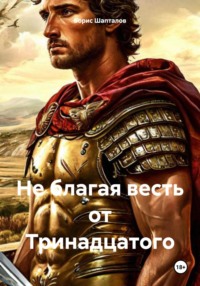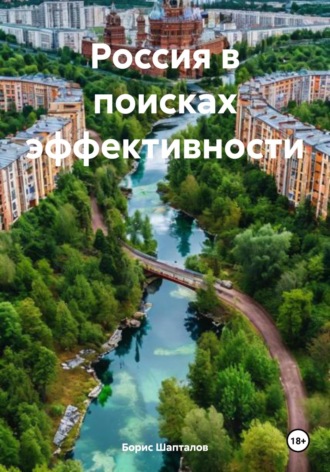
Полная версия
Россия в поисках эффективности
Совершив невероятное – вступив на русский престол – Лжедмитрий сам все испортил. Он повел себя очень легкомысленно, в стиле гоголевского Хлестакова. Будь он природным царем, ему бы все художества сошли с рук. Но человеку, выдававшему себя за царя, требовалось особо выверенное поведение и тщательная мимикрия. Отрепьев же своими выходками вызывал возмущение у ежедневно наблюдавших его бояр. Он легко нарушал ритуалы и традиции двора и распорядок жизни царя. Привечал иностранцев, начиная с иезуитов и кончая наемными солдатами. Можно представить, как раздражал он бояр, половина из которых в силу родовитости могла претендовать на шапку Мономаха. Избежать заговора в таких условиях можно было лишь в двух случаях: вести себя по-царски, как это понимали в Москве, или развязать террор, подобно своему «деду». Отрепьев следовал тупиковому пути, оставаясь самим собой. Последним поступком самозванца, покончившим с колебаниями боярства, стала женитьба царя на католичке Марине Мнишек, происходившей из заурядного дворянского рода. Женись царь «Дмитрий» на иноземной принцессе королевских кровей, свергнуть его было бы много труднее. Брак с худородной иноземкой окончательно выдавал худородность самого самозванца. Боярство к тому времени оправилось от психологического шока. Устранение Лжедмитрия открывало одному из родов путь к трону.
Свадьбу сыграли 8 мая 1606 года, а 17 мая бояре во главе с прощенным Василием Шуйским совершили переворот, убив самозванца. Еще через три дня В. Шуйский, отбив притязания соперников, возвел себя на царство. Любопытная деталь. Историк Р. Скрынников отметил, что «в день боярского мятежа князь Василий Шуйский руководил заговорщиками, а его брат князь Дмитрий находился во внутренних покоях дворца, подле царя. Именно он помешал Отрепьеву принять своевременные меры для подавления мятежа» (7. С.165). Пикантность ситуации состояла в том, что Дмитрий Шуйский был женат еще на одной… дочери Малюты Скуратова! Одни и те же духи вились на кровавом ристалище.
Быстрота, с которой вознесся на трон «царевич Дмитрий» и затем был низвергнут, как самозванец, смутила население страны. Под вопрос оказалась законность самих институтов власти. За короткий срок было убито два царя, «два помазанника божия»! Ведь царская власть, как издавна внушалась народу, была проявлением воли Бога. А возводили на трон и убивали практически одни и те же люди. Естественно, возникал вопрос: так где же правда? А может, «добрый царь» был убит за его желание облегчить положение простых людей? Поползли слухи, а следом вспыхнули восстания. Мятежи охватили территории от Вязьмы, Тулы и Рязани до Дона и Астрахани, от Чернигова до Нижнего Новгорода. В восстаниях участвовали казаки и крестьяне (наиболее известен предводитель Иван Болотников), дворяне (главные заводилы рязанские дворяне Прокопий и Захарий Ляпуновы и тульский дворянин Истома Пашков).
В 1608 г. к Москве подошло войско очередного самозванца Лжедмитрия II. Власть в очередной раз «чудесно спасшего» царя признали Суздаль, Владимир, Ярославль, Вологда и т.д. Полстраны! Однако Лжедмитрий II не сумел взять Москвы и утвердиться на царство. Он остановился в деревне Тушино под столицей, которая и стала его ставкой.
Хотя Шуйский, в отличие от своего законного предшественника царя Федора Годунова, сумел удержаться, но его мало кто почитал. Другие области Руси, чем дальше, тем больше, действовали по своему разумению. Появились предпосылки к распаду государства на удельные княжества и республики. Шуйский по старому обычаю вернулся к практике использования иноземных войск во внутренних междоусобицах. Он заключил договор со Швецией. В обмен на присылку ею своих войск царь отдавал северное побережье Онежского озера с городом Корелой и входил в союз против Речи Посполитой, чей король, Сигизмунд III, претендовал на шведскую корону. В ответ на это соглашение в Россию вторглись польские войска. Гражданская война переплелась с иностранным вмешательством. Шуйский хотел было призвать также крымских татар и даже заплатил им деньги (их отвез пока в тот момент малоизвестный князь Дмитрий Пожарский). Но крымцы обманули Шуйского. Конечный итог участия в войне иностранных войск был таков: помимо побережья Онежского озера Швеция вновь отобрала побережье Балтийского моря, а Речь Посполитая – Чернигов и Смоленск.
Шуйский недолго пробыл на троне. Растущая анархия в стране и неспособность правительства с ней справиться оттолкнули от него большую часть правящей элиты и народа. Последним доводом против неспособного к управлению царя стал разгром польской армией гетмана Жолкевского царских войск, шедших помочь осажденному Смоленску. 7 июля 1610 года Василия Шуйского свергли. И на этот раз его не убили (он в третий раз за свою долгую жизнь избежал смерти!), а был насильно пострижен в монахи, а затем был увезен в Польшу, где и умер.
И без того закрученная историческая интрига продолжала развиваться. К Москве разом подошли поляки во главе с Жолкевским и отряды Лжедмитрия II. Бояре и высшее духовенство выбрали из двух зол меньшее: на русский трон впервые был приглашен иностранец – сын польского короля Владислав. Так возникла новая альтернатива – уния России и Речи Посполитой, ведь по смерти своего отца Сигизмунда III Владислав мог стать польским королем и великим литовским князем (позже так и случилось). 27 августа 1610 г. москвичей заставили присягнуть Владиславу. То была их четвертая (!) клятва на верность с 1605 года. Если учесть, что предыдущих трех царей свергли, то можно представить, какое смятение царило в их умах, ведь каждый раз клятвы давались именем Христа с участием духовенства и бояр. Однако дело было сделано. Войска Лжедмитрия вскоре потерпели поражение от русско-польских войск, а сам самозванец был убит собственными телохранителями в декабре 1610 года. Теперь можно было объединять государство под скипетром единого правителя. Однако славянской конфедерации и сверхдержаве родиться было не суждено. Помешали религиозные противоречия.
Дело испортил отец Владислава Сигизмунд, возмечтавший возложить корону московского царства на себя, не переходя при этом в православие. В какой-то степени его можно понять, ведь Владиславу едва минуло 15 лет и управлять он не мог. Но оттого его проект не переставал быть малоудачным. Интересно, что виды Сигизмунда на московский трон не мешали ему продолжать осаждать Смоленск. Столь разновекторные желания лишь способствовали укреплению антипольских настроений.
Вошедшие в Москву польские отряды прибыли без Владислава, потому их пребывание напоминало больше оккупацию, чем сердечное соединение сторон. По Руси началась агитация против иностранного гарнизона в православной столице. Патриотический клич имел успех. Возникло так называемое первое общерусское ополчение. Его возглавили рязанский дворянин Прокопий Ляпунов (один из руководителей мятежа в армии Годунова под Кромами), князь и боярин Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Заруцкий (оба бывшие сподвижники Лжедмитрия II). В апреле 1611 г. ополчение вошло в Москву и осадило польский гарнизон и русских сторонников Владислава в Кремле и Китай-городе. Призрачную власть очередного царя (Владислава или Сигизмунда) необходимо было срочно укреплять. Однако польский король остался верен своей глупости. После падения 3 июня Смоленска, который держал оборону 20 месяцев, он предпочел уехать в Польшу, отрядив на помощь осажденным небольшой отряд под командованием Ходкевича. Пан Ходкевич пробиться к Москве не смог, и 3-тысячный польский гарнизон, прибывший добывать московский трон для представителя королевского дома Речи Посполитой, вынужден был обороняться собственными силами. Можно лишь повторить, что к счастью для Русского государства у него не было серьезных стратегических противников, способных до конца использовать внутренние неурядицы в государстве и разгромить его.
Первому общерусскому ополчению обычно уделяется мало внимания в учебниках по истории и в популярной литературе. В ходу история второго ополчения во главе с К. Мининым и Д. Пожарским. И это правомерно, раз именно второе ополчение вышло победителем в схватке с русско-польским отрядом, засевшим в центре Москвы. Но по потенциалу и корням произошедшей неудачи первое ополчение интереснее для понимания судьбы России.
Первое общерусское ополчение, если исходить из социального состава его участников, представляло собой союз дворянства, казачества и аристократии, что отразилось в личностях трех руководителей ополчения. Естественным следствием такого широкого союза явилась попытка создать, вместо разрушенной новую систему управления государством.
Ополченцы создали свой совет (собор) во главе с триумвиратом. 30 июня на нем был утвержден так называемый Приговор, нечто вроде манифеста о принципах управления государством. Составлен он был П. Ляпунова и потому отражал настроения, прежде всего, дворянства. Этот документ дошел до потомков лишь частично, но имеющиеся отрывки свидетельствуют о ходе мышления его авторов. В Приговоре были определены полномочия руководителей ополчения: управлять не только войском, но и «землею», т.е. государством. Была поставлена задача создания новых приказов, которые взяли бы на себя текущее управление. Далее в Приговоре разбирались вопросы поместных земель, вопрос о бежавших холопах и много других накопившихся проблем.
Этот документ интересен своей попыткой сформировать новую власть. Лидер земской части ополчения явно наметил видоизменить власть в интересах дворянства. И в своих собственных, конечно, тоже. Этот рязанский дворянин явно претендовал на большее, чем быть простым орудием расчистки власти для других. Но ничего из этого не получилось. Руководители ополчения перессорились между собой. Требование вернуть бежавших крестьян и холопов к прежним господам возмутило казаков, среди которых было много беглых. Ляпунов был вызван на казачий круг и в ходе жаркой дискуссии зарублен. Гражданская война есть гражданская война. После этого земцы, основу которых составляло служивое дворянство, покинули ополчение. Сами казаки, представлявшие собой анархическую вольницу, ни создать органы управления государством, ни даже взять Кремль и Китай-город не могли. Польско-русский гарнизон получил передышку. В стране же исчезло даже подобие централизованной власти. Настала жизнь без царя в прямом и переносном смысле (в государстве и в головах). Наступил момент проверки на прочность созданного Иваном III единого государства.
Русь не распалась на удельные земли. Феодальное средневековье завершилось. Оставалось воспользоваться этим обстоятельством. Очередную попытку выйти из кризиса предприняли представители средних слоев. Как всегда в условиях разброда требовался лидер, способный своим примером, ораторским талантом, харизмой увлечь за собой колеблющихся и готовых действовать, но не знающих, как это делать. После смерти П. Ляпунова такого человека долго не находилось. Тактика использования самозванцев тоже себя исчерпала. Народ устал от бесконечной вереницы «чудесно спасенных» и вновь убиваемых царевичей (после Лжедмитрия II появилось еще несколько). Сигизмунд III демонстрировал полное непонимание психологической ситуации в далекой и чуждой ему Московии и не делал ничего умного и дельного, хотя польские воины и его русские союзники упорно и самоотверженно продолжали держать в своих руках центр столицы в ожидании помощи.
В августе 1611 г. казаки атамана Заруцкого даже решили было посадить на трон годовалого Ивана – сына Лжедмитрия II и перешедшей к нему «по наследству» Марины Мнишек. Но что-то у них не сладилось. Время тянулось, но ничего нового не происходило. Межвластие продолжалось, но оно не могло продолжаться бесконечно. Сама пауза, политический вакуум способствовали оформлению новой силы, способной перевесить чашу весов. Города активно переписывались между собой в поисках выхода. Находившийся в заточении патриарх Гермоген звал земство не давать клятвы верности ни сыну самозванца, ни польскому королю. Кроме того, дело заключалось не только в проблеме избрания царя на пустующий второй год трон. Погрязшая в анархии страна стала добычей многочисленных шаек, грабивших население. Всем было ясно, что пора наводить порядок.
Лишь весной-летом 1612 года сложилось второе земское ополчение. Главным организатором и вдохновителем его стал нижегородский мещанин Кузьма Минин. Он наметил кандидатуру военного предводителя ополчения – князя Д. Пожарского. После долгих сборов ополченцы добрались до Москвы в конце августа 1612 г. Первым делом им удалось отбить новую попытку гетмана Ходкевича ворваться в Москву. Его отряд был остановлен у Девичьего монастыря и после трехдневного боя отброшен. После чего ополченцы вновь приступили к осаде неприятеля.
Поляки держались уже больше года. Продолжали они обороняться и дальше. Главным их противником были не осаждавшие, а голод. Когда все было кончено, то в казармах нашли кадки с засоленным человеческим мясом. Удивительно, что люди шли на такие мытарства ради одного сиятельного глупца в Варшаве. А может, они верили в идею единого великого государства от Одера до Сибири? Кто знает… В любом случае героизма осажденным было не занимать.
22 октября был взят Китай-город. 26 октября сдался гарнизон Кремля.
Победа дала фактическую власть в руки временного правительства во главе с Д. Трубецким и Д. Пожарским при участии К. Минина. Оно контролировало Москву до избрания на царство Михаила Романова, то есть до февраля 1613 года. «…даже знатнейшие бояре, «которые на Москве сидели», вынуждены были уехать из Москвы и не были на соборе вплоть до той поры, когда новый царь был уже избран: их вернули в Москву только между 7 и 21 февраля» (4. С.329). На этом деятельность Собора закончилась. Парламента из него опять не получился, сословной монархии тоже. Все альтернативы полопались словно дождевые пузыри. «Европейский» цивилизационный код не сработал. Значит, Иван Грозный не зря трудился…
Время Смуты характерно не только калейдоскопом событий, которых в иной обстановке хватило бы минимум на полвека. Смута явила собой пример невиданного прежде на Руси падения авторитета власти и полной неспособности правящей элиты решить неординарные проблемы гражданской войны. Только самозванцев объявилось не менее десятка, трое из которых – два Лжедмитрия и один «царевич Петр» (якобы сын царя Федора Ивановича) – сумели собрать значительные военные силы и подчинить себе обширные районы страны. Смута стала временем чуть ли не сплошного предательства в среде правящего класса страны. Предавали царя Федора Годунова, затем поклялись в верности самозванцу, чтобы предать и его. Василий Шуйский неоднократно менял свои показания в отношении судьбы царевича Дмитрия. Лжесвидетельствовала даже мать царевича Марфа Нагая. И все эти свидетельства и клятвы верности скреплялись именем Бога. Боязнь смертного греха (заповедь «не солги» одна из центральных) никак не останавливала их. Если себя так вели первые лица в иерархии правящей элиты, то подобным образом поступали и другие, рангом ниже. Многие метались между борющимися сторонами, ища себе выгоду. Боярин Федор Романов, после неудачного раунда борьбы за власть вынужденный принять духовный сан под именем Филарета, отец будущего царя Михаила I, стал патриархом у Лжедмитрия II. Освящая своим церковным и духовным авторитетом человека, он заведомо знал, что тот не мог быть ни «царевичем Дмитрием» (по возрасту Романов был свидетелем истории его смерти), ни «царем Дмитрием» (он не мог не видеть трупа первого самозванца). После смерти Лжедмитрия II Романов поехал с посольством просить Владислава на московское царство и тем способствовал новому витку усобиц… А вот другой характерный персонаж: боярин А.А. Телятевский воевал с Лжедмитрием I и был в войске под Кромами. А вскоре он всплывает в качестве одного из воевод «царевича Петра» – неграмотного казака Илейки Муромца, и успешно воюет с войском В. Шуйского. Такой переход удивителен, ведь ему было прекрасно известно, что у царя Федора Ивановича не было детей. Но ненависть к Шуйскому (Телятевский находился в родстве с Годуновым: был женат на дочери брата Б. Годунова) пересиливает «классовую ненависть», и он воюет вместе со своим бывшим холопом Иваном Болотниковым. И это не единичные факты. Среди приближенных «царевича Петра» были князья Мосальские и князь Г. Шаховский – фамилии родовитые и не последние в среде правящей элиты. «Что касается московских бояр и дворян, то они служили и тому и другому государю (Лжедмитрию II и Шуйскому – Б.Ш.): то ходили в Тушино за чинами и «деревнишками», то «отставали от измены», ожидая награды от Шуйского. Бояр, курсировавших между двумя столицами, стали звать в Москве «тушинскими перелетами».
С.Ф. Платонов в своей книге привел свидетельства иностранных наблюдателей, считавших, что избрание на царство Михаила Романова стало возможным, прежде всего благодаря позиции казаков. «Нет сомнения, что казаки выдвинули его по тушинским воспоминаниям, потому что имя его отца Филарета было связано с тушинским табором» (4. С. 329).
Цепь предательств продолжилась свержением В. Шуйского и ковалось новыми звеньями до тех пор, пока ополчение во главе с мещанином К. Мининым и не очень родовитым князем Д. Пожарским не подвело черту под всей этой вакханалией. Потому и назван был этот период истории Руси Смутой, что в «потемках» оказалось не только государство, но множество государственных людей.
Правящая элита, оставшаяся от эпохи Ивана IV, не справилась с ситуацией. Зато совладали с ней те, кому лезть в политику не полагалось по социальному статусу – посадский люд. (Хотя ополчение возглавлял князь Д. Пожарский, но, что показательно, этот представитель правящей элиты согласился стать военным руководителем после долгих уговоров!). Посадские – это те, кого несколько веков спустя будут называть «средним классом» или мелкой буржуазией. Средний класс, не пропущенный через сито опричниной Ивана Грозного, оказался на Руси едва ли не единственной национальной силой.
Однако поход ополчения оказался лишь эпизодом взлета национального духа. Ничего социально и политически нового не родилось. Власть была передана старой политической элите, причем без всяких условий и с сохранением прежней системы властвования и хозяйствования. Разница была лишь в том, что в Московском государстве могла продолжиться династия Годуновых, утвердиться династия Шуйских или какая либо еще, но все тропки вывели на дорогу, связавшую страну на 300 лет с династией Романовых. Но можно сказать и по-другому: новая династия утвердилась как итог пожирания соперниками друг друга. Это выражение больше отвечает духу Смуты.
Смута не стала катарсисом, открывающим путь к уходу от «восточного» политического устройства и крепнувшего «восточного» менталитета. В этом качестве оно стало консервироваться, тогда как в эти же годы свершилась буржуазная революция в Голландии, победила протестантская Реформация в Скандинавии, Северной Германии и Швейцарии, уже не одно столетие выкристаллизовывался капитализм в итальянских городах-республиках, дозревала до своей буржуазной революции Англия. А ведь путь к парламентаризму в России, казалось бы, тоже был открыт. Уже неоднократно собирались Земские соборы. Нужно было лишь только сделать их постоянными, ежегодными. В этом случае Земский собор мог играть роль нижней палаты, Боярская дума – сената, а царь – главы государства. Опыт составления Судебников позволял закрепить процесс в правовых формах. Правда, в течение десятилетия (примерно, до 1622 г.) представители земств заседали в Москве постоянно. Молодой царь не был способен к управлению, старая элита показала свою несостоятельность, поэтому основные вопросы решались через представителей городов и областей. Даже когда из польского плена в 1619 г. вернулся отец царя Филарет, тут же выбранный патриархом русской церкви, человек властный, жесткий и способный администратор, то и тогда первые годы он опирался на земство.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.