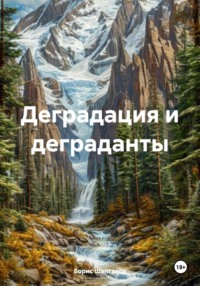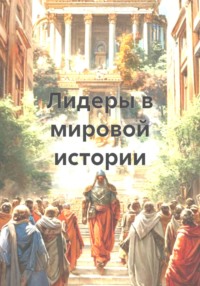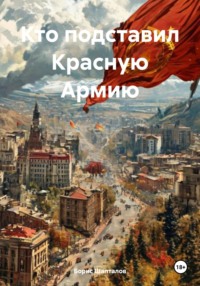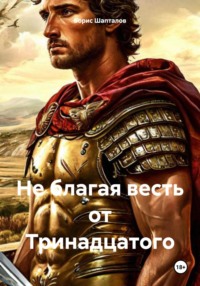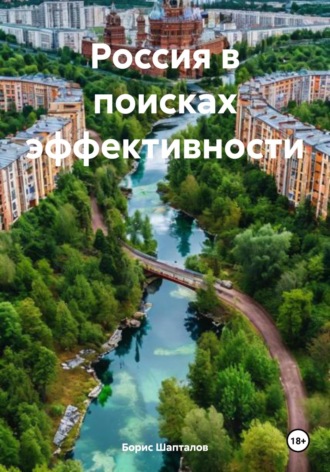
Полная версия
Россия в поисках эффективности
Иван III, казалось, должен был отвергнуть это предложение, потому что Ватикан мог рассматривать Зою Палеолог как канал своего влияния. Кроме того, с точки зрения иерархов православной церкви, она была еретичкой, ведь флорентийская уния 1439 года между католической и византийской церквями оставалась в силе. Именно в силу этих причин «нормальный» московский князь, воспитанный в традициях ненависти к католичеству и Западу, должен был отвергнуть соблазн. Приведем в качестве образчика такого мышление соображения современного нам историка: «Проект «русского брака» отвечал извечной жажде римского престола к расширению сферы своего идеологического влияния, стремлению подчинить себе русскую церковь, вовлечь Русское государство в свои политические комбинации…» (1. С. 71). Если на таком антизападном уровне думает наш современник, то как должны были ужаснуться предложению папского посла современники великого князя? Только не Иван III! Он преспокойно соглашается с предложением, видя за ним не столько чьи-то козни, сколько способ возвысить в глазах Европы свое окраинное княжество до уровня великой державы. В Рим было отправлено официальное посольство. Показательно, что в правительственном аппарате не нашлось человека, знающего европейские языки, потому миссию посла поручают итальянцу Джанбатиста Вольпе под именем Ивана Фрязина. Иван III принимает меры, чтобы казус не повторился и в 1474 г. в Венецию послом уже отправляется русский – С.И. Толбузин. То был первый за всю многовековую историю «ордынской» Руси русский посол в Западную Европу!
Характерна и задача, которую поставил великий князь перед Толбузиным. За два года до этого началось строительство нового Успенского собора в Кремле. За образец решили взять Успенский собор во Владимире, построенный в ХII веке. Византийских учителей на Руси уже не было. Русские каменщики за предыдущие лихолетья секреты строительства подрастеряли. Хотя мерку с владимирского собора и сняли, но пробелы в математике и сопромате восполнить не смогли. В мае 1474 года верхняя часть недостроенного Успенского собора рухнула. Реакция Ивана III была незамедлительной. Уже в июле в Венецию отправляется посольство с наказом привезти итальянского мастера. Поступок неслыханный. Главный собор Кремля должен был строить католик! Но великий князь продолжает демонстрировать нетрадиционный для Руси идеологический прагматизм. Пусть католик, лишь бы дело делалось! Толбузин в Венеции договаривается с архитектором А. Фиораванти. Плата, требуемая мастером, огромна, – 10 рублей в месяц, тогда как стоимость деревни в несколько десятков дворов составляла около 100 рублей (1. С. 94). Посол легко идет на эти условия, значит, таковы были инструкции великого князя. Иван III уже понял: за вековое стояние к Европе задом нужно платить. Но великий князь согласен платить не только за обозначившуюся отсталость, но прежде всего за сокращение разрыва. Итальянец должен был учить русских строителей секретам высококачественной каменной архитектуры.
«Вмешательство» иностранцев на этом не кончилось. Летом 1485 г. начались работы по замене обветшавших, построенных при Дмитрии Донском стен Кремля, новыми, более мощными. Руководили работами итальянские «прорабы». Они же «попутно» построили Грановитую палату, Архангельский собор, ставший усыпальницей царей, колокольню Ивана Великого и ряд других крупных сооружений. Приезжали также «мастера стенные и полатные», пушечные и серебряных дел, приехал даже «органный игрец», – августинский монах, вскоре женившийся в Москве и принявший православие. Приезжали из Милана, Венеции, Любека. Немцы «Иван да Виктор» нашли первое в стране месторождение серебряных и медных руд. А грек Мануил Иларьев организовал их добычу (1. С.164-165).
В Москве был создан Пушечный двор – первый казенный завод на Руси. Пушки лили под присмотром иностранных мастеров.
Поворот лицом к Европе и окончательный отказ от вассального союза с Востоком давал стране необходимые интеллектуальные ресурсы для дальнейшего развития. Хотя на Востоке знали искусство строительства каменных крепостей, но только не кочевники. Поэтому техника каменных фортификационных сооружений пришла на Русь опять же с Запада. Подобные заимствования давали объективный перевес над степняками.
Политика Ивана III углубляла процесс усвоения европейского опыта, делая его систематическим. Для косного неторопливого мышления средневековья это было психологически чрезвычайно важно. Ведь порой самое трудное – переломить традицию, с «убойными» ссылками на заветы предков. Появление в Москве иностранцев в качестве постоянных торговых агентов и мастеров перестало пугать москвичей и правящую элиту. «Еретики» оказались нормальными людьми, приносящими много больше пользы, чем «родные» ордынцы.
Иван III восстановил присущую Киевской Руси практику широких дипломатических связей с европейскими государствами. Политические переговоры с отправлением посольств велись с Венгрией, Данией (с ними были заключены союзные договора), с императором Священной Римской империи… Для страны, впервые вышедшей в мир с миссией Толбузина в 1474 году, темпы наращивания двусторонних связей с Западом были впечатляющи.
Может «западничество» Ивана III означало попирание им национальных интересов своей страны перед католиками? Нет. Один пример. В августе 1480 г. ливонское войско совершило набег на псковские земли, разорив несколько волостей. Таких набегов за триста лет было немало. Все заканчивалось максимум ответным набегом на пограничные районы Ливонии. Иван III поступил иначе. Помочь псковичам тогда он не мог: Русь отражала нападение хана Большой Орды Ахмата. Но с окончанием кризиса с Ордой в ноябре, великий князь доказал, что нападений на своих вассалов он не прощает. В феврале 1481 года, несмотря на холода, войско выступило в поход отмщения. Удар был нанесен по столице владений магистра Ордена, виновника набега, Феллину. Магистр бежал в Ригу. Русские войска же начали бомбардировку крепости и подготовку к штурму. Жители благоразумно сочли выплатить контрибуцию. Орден пошел на заключение договора, регулирующего вопросы двусторонних отношений, такие как права русской колонии в Тарту, льготы купцам в Нарве и пр. Ивана III с Орденом поступил также как с Казанским ханством, – нанес глубокий удар до самой сердцевины противника. Великий князь и на Западе демонстрировал свою наступательную стратегию.
В 1492 г. Иван III воспользовался распадом польско-литовской унии. Со смертью короля Казимира IV королем Польши стал его старший сын, а великим князем Литовского государства младший сын – Александр. Русские войска заняли приграничные области и принудили Александра в 1494 г. заключить мирный договор, по которому к Руси отходили земли вокруг Вязьмы и другие порубежные территории. Граница с Литвой отодвигалась от Москвы со 150 км до 250 км. Для обороны центра государства такой перенос границ – огромный успех.
Иван III наступал по всем направлениям, везде достигал успеха и, что самое удивительное, без больших потерь и изнурительных войн. Худой мир лучше доброй ссоры посчитали в Вильно и в Москве, потому в том же 1494 году Иван Васильевич отдал свою дочь Елену в жены Александру. Причем литовский правитель согласился сохранить православное вероисповедание жены. Забрезжила очередная возможность объединения обеих государств через детей католическо-православной семьи великого князя литовского. Увы. Не получилось и на этот раз. В 1500 году вспыхнула вторая война с Литовским государством. Уже 14 июля, недалеко от Дорогобужа, были разгромлены главные силы противника, действовавшего на Смоленском участке. В плен попал командующий литовским войском. К середине августа были взяты такие города, как Чернигов, Гомель, Новгород Северский… Вильно запросил помощи у Ливонского Ордена. Помощь была оказана. На следующий год ливонские отряды атаковали псковские земли. Ивану III пришлось выделять силы против Ливонии. Осенью 1504 года русская рать совершила рейд по ее землям вплоть до Ревеля, опустошая территорию противника. Новые поражения потерпели войска Литовского государства. В 1502 г. русская рать осадила Смоленск. Со взятием этого центрального пункта обороны литовских рубежей открывался путь вглубь Литвы. Но Смоленском овладеть не удалось. Пришлось идти на мировую. В январе 1503 года было подписано перемирие на 6 лет. По его условиям за Русским государством оставались почти все завоеванные земли. Граница теперь проходила в 50 км от Киева. Такого внешнего успеха московская Русь еще не знала.
По эффективности война Ивана III превзошла четверть вековую войну с той же Ливонией и Литвой Ивана Грозного. Но последнюю все знают, ибо ее проходят в школе. Войны Ивана III малоизвестны, хотя они более поучительны. Иван III предпочитал не «бодаться» десятилетиями с противником, а короткими кампаниями достигать осязаемого результата и тут же закреплять его мирными соглашениями.
Иван III, подобно Петру I, также искал выходы на морские пути. По его приказу напротив Нарвы в 1492 г. закладывается крепость-порт Ивангород. В то время торговлю с Европой через Балтику фактически монополизировали купцы немецкого союза портовых городов – Ганзы. Из Москвы в Данию уезжает посольство с предложением о союзе против Ганзы. В 1493 г. соответствующее соглашение было достигнуто. В следующем, 1494 году, закрывается ганзейский двор в Новгороде. Союзником Ганзы выступила обеспокоенная активностью Руси Швеция. Начинается война. Знакомая ситуация: примерно по той же схеме (союз с Данией, война со Швецией) воевал Петр I.
Иван III действовал энергично. Зимой 1496 года русский отряд дошел до города Або, расположенного на берегу Ботнического залива. Был осажден Выборг. Шведы ответили ударом и взятием Ивангорода. В 1497 году было заключено перемирие. Война на этот раз закончилась вничью. Но опять же без больших потерь и усилий. Экономно…
Одним из последних деяний царя стало составление первого на Московской Руси единого кодекса законов. Под названием Судебник он был принят к руководству в 1497 году.
С Запада шли не только необходимые обществу и государству новации. Нашлось место и «тлетворному влиянию». В декабре 1504 г. в Москве впервые на костре сожгли еретиков. Был ли причастен к этому Иван Васильевич? К этому времени он уже был тяжело болен – пережил инсульт. Власть постепенно переходила к наследнику, сыну Василию. В октябре 1505 года Иван Великий умер.
Иван III явил собой на Руси пример политика-новатора, первого «прозападника». Человека, который стал рассматривать Орду не в качестве старшего партнера и тем более сюзерена, а как объект для экспансии, правда, пока политической. Но такой курс открывал путь к экспансии территориальной.
Иван III подходил ко всем вопросам чисто государственно, без узких идеологических шор. Приглашение архитектора-католика для строительства православного храма не единичный пример. Он впервые в истории русской церкви провел секуляризацию части церковных земель, считавшихся до него имуществом неприкосновенным. Произошло это в 1478 году только в отдельной части страны – в Новгородской епархии в наказание за поддержку восставших новгородских сепаратистов. Однако то был прецедент, ломавший многовековую традицию. До полной секуляризации дело дойдет лишь при Екатерине II, но по-настоящему тяжел и ответственен все же первый шаг. Позже, в 1488 г., при ликвидации Верейско-Белозерского удела, два крупнейших монастыря – Кириллов и Ферапонтов – лишились торговых привилегий. Иван III первым из русских князей применил известную формулу: «Богу богово, а кесарю кесарево».
Иван III, как политик, оказался великим дозировщиком. Он в делах не перегибал палку, не увлекался репрессиями, не разводил фаворитизм, во имя чадолюбия не раздавал земли, разрушая единство государства. Если и совершал ошибки (а все люди их совершают), то их нельзя отнести к категории «роковых», «непоправимых» и даже просто «тяжелых».
По объему проведенных качественных реформ Иван III несомненный предтеча Петра I. Его политический поворот был не менее радикальным, чем при Петре. Оба отдали себя служению государству, не останавливаясь перед репрессиями ближайших родственников за попытку вернуться к старому. Петр осудил на смерть сына, Иван посадил в тюрьму своего брата, отказавшегося послать воинский отряд от своего удела в поход против Орды. Там он и умер.
Кому из двух царей-реформаторов в своих делах пришлось труднее? Петр получил в наследство огромное и уже централизованное государство с абсолютистской монархией. Машину требовалось пустить в ход, в том числе и для преобразования самой государственной машины. Ивану III требовалось создать централизованное государство и соответствующие ему институты и структуры, одновременно решая сложнейшие внешнеполитические задачи борьбы с Ордой, Орденом и Литвой, т.е. находясь в полуокружении. Петр такой стратегической ситуации не знал, воюя со Швецией в союзе с Речью Посполитой. При этом страна понесла большие потери населения (оно сократилось примерно на 10 процентов), тогда как при Иване III убыли населения не произошло. Получается, что эффективность политики Иван III выше, чем Петра I. Выражаясь современным языком, по уровню «цена-качество» Иван III, пожалуй, самый эффективный правитель России. Не увлекаясь долгими войнами, не неся больших людских потерь, он достигал больших государственных результатов.
Иван III выстраивал стратегию государственной политики умело, грамотно, внятно, перспективно. Чтобы эта государственная перспектива закрепилась, требовалось одно – державный продолжатель Дела…
Но и помимо успешной государственной деятельности великого князя, был и другой отрадный процесс, – понемногу развивалось само общество. История знает много примеров, когда при слабых правителях народ очень продуктивно трудился, экономика и культура процветали. Если, конечно, этим правителям хватало ума не вмешиваться в естественный процесс. В царствование Ивана III совпали оба вектора; успешное развитие шло «сверху» и «снизу». При объединении Северо-Восточной Руси произошло не просто механическое сложение земель и населения, а умножение национальных сил. Эффект знакомый многим странам при их национальном объединении, когда здоровый этнос выходит на высоты прежде недостижимые.
Насколько толково будут использованы новые «энергетические мощности», зависело от правителей страны. Что касается Руси, то можно сказать, что будущее страны зависело от того, какая тенденция – «восточная» или «западная» будет доминировать в практике государственной жизни. Как оказалось, противоборство этих двух тенденций на века определило весь дальнейший алгоритм развития страны.
Подытоживая, отметим основные характерные черты деятельности первого реформатора Руси-России. Итак:
– Иван III свершил своеобразную революцию, но революцию консервативную: он не поступился традициями, а обогащал их. Этим он отличался от Петра, который порвал со старой традицией и ввел новую. Можно сказать, что Иван III был равен Руси, а Петр – шире ее.
– Женитьбой на Софье Палеолог Иван III поставил свой род выше других княжеских родов на Руси, чем способствовал укоренению своей династии.
– При нем началась европеизация «азиатского» государства, частично восстановилась «связь времен», ибо Киевская Русь была типично европейской по типу державой.
– Иван III проложил стратегический курс развития государства на столетия вперед. Насколько это сложно? При Брежневе и Горбачеве также стоял вопрос о выработке нового стратегического курса для государства. Но эти попытки закончились полным провалом, а с ними произошло крушение государства. Очередная задача встала перед Ельциным, – и тоже провалилась. Так что «с нуля» выработать долговременную стратегию эволюции страна – задача для гениев или, по меньшей мере, выдающихся политиков.
Откат
В 1502 г. улус Джучи (Золотая Орда) официально прекращает свое существование. Московская Русь, не торопясь, набирает силы. При сыне Ивана III Василии завершается объединение земель Руси. В 1510 году в Московское княжество входит Псков, в 1514 – Смоленск, в 1517 – Рязань. Дальше, по логике вещей, должна была наступить очередь территорий бывшей Золотой Орды. Ослабление государственной власти в период малолетства нового государя Ивана IV временно отодвигает проблему золотоордынского наследства. Но она существует, и как только Иван вступает в дееспособный возраст (в 1547 г. ему исполняется 17 лет), то сразу возникает этот вопрос. Советники молодого царя (титул великого князя уже мал: выросли!) в лице священника Сильвестра и государственного чиновника А. Адашева намечают рубежи возможного расширения границ государства. Формулируется задача присоединения бассейна Волги.
То была подлинная революция в умах политиков. С ХIII века Русь не занималась территориальной экспансией. 300 лет она стояла на месте, лишь защищаясь. За это время половина былой Киевской Руси отошла к Литве и Польше. А тут замышлялся поход в сердце некогда страшной Орды с задачей присоединить эти земли!
Великий замысел реализуется быстро и успешно. В 1552 году присоединяется Казанское ханство, в 1556 – Астраханское. Там, где некогда располагалась столица Орды Сарай, куда стекалась дань и ездили на поклон князья, там теперь простирались владения московского царя. Было чем гордиться, и было от чего закружиться голове. И у Ивана она закружилась. Он выступает за войну с Ливонией. Цель – уничтожить католический Орден. Против такой войны возражали о. Сильвестр и Адашев. Ситуация с Ливонией была принципиально иной, чем с волжскими ханствами. Они были разобщены. Иван мог, как в свое время Батый, бить их по одиночке. В 1580-е годы по тому же сценарию он приказывает завоевать Сибирское ханство. А за Ливонией была Европа. Однако царь Иван поступает по своему. И просчитался. В схватку за наследие Ливонского Ордена вступили Швеция, Дания, Литва, Польша. Это была первая война Руси с коалицией европейских стран за всю ее 700-летнюю историю. И ничего хорошего она стране не принесла.
Сами советники предлагали ударить по последнему осколку Батыевой Орды – Крымскому ханству. Явно под их влиянием был проведен ряд разведывательных экспедиций. Так, в 1555 г. к границам владений Крымского хана был послан 10-тысячный отряд под командованием воеводы И. В. Шереметьева. В 1556 г. по Днепру к Очакову устремился отряд дьяка Ржевского, которому ставилась задача нанести максимальный ущерб противнику. Летучий отряд ее успешно выполнил. В это же время свою помощь предложил князь Дмитрий Вишневецкий. Хотя он жил в Литовском государстве, но мечтал совместно с Москвой бороться со степняками. Он организовал на острове Хортица укрепленный лагерь, как базу для нанесения ударов по кочевникам. Нужно было развивать наметившийся успех, для чего требовалось развернуть надлежащие силы. Но Иван IV, что говорится, уперся. Его взор приковала Ливония.
Вина Иван IV, как государственного деятеля, не в том, что он нанес удар не по Крыму, а по Ливонии, хотя именно Крымское ханство с его набегами, а не Прибалтика, на столетия стало занозой России. Вина его (и государственная глупость!) в том, что когда выяснилась невозможность присоединения Прибалтики, он не поспешил закончить войну, чтобы вернуться к этому вопросу позднее, в более благоприятных обстоятельствах. Война на два фронта – против Литовско-Польского государства на Западе и орд кочевников на юге – превосходила военный потенциал страны. Мудрость заключается не в том, чтобы ввязаться в драку (как раз ума для этого не требуется), а чтобы выйти из нее с наименьшими потерями. Иван III делал это прекрасно. Лозунг же Ивана IV был: «все или ничего!» Получилось последнее.
Порой путаются две качественные вещи – цель и средства ее достижения. Получается раз цель нужная, то следует оправдывать и корявую политику по ее достижению. Иван IV плохо, бездарно осуществлял достижение поставленной цели – захвата земель Ливонского Ордена, но ему антизападники готовы это простить. Главное, что он боролся с Западом, а что из этого получилось – дело двадцатое.
В этой связи скажем о природе самой Ливонской войны. Иные публицисты (историками их не назовешь) представляют дело так, что Запад составил коалицию против России, и Ивану IV пришлось оборонять рубежи страны. Это совершенная неправда. Разгром Ливонского Ордена подвиг Данию и Швецию к захвату своей доли пирога. К разделу захотела присоединиться и Литовское государство. Дело обычное. То, что Иван IV хотел получить все – тоже понятно. Но в политике мало желание, есть еще такая категория, как соотношение сил. У Московской России не было той силы, способной наложить длань на все и вся. Надо было делиться добычей, как сделали это Вена и Берлин при разделе Речи Посполитой в XVIII веке, отдав немалые куски Екатерине II. Зато Иван IV пожадничал и не уступил. Итог жадности известен.
Точно также неверно достаточно распространенное представление, что Иван IV начал борьбу за выход к Балтийскому морю. Это утверждение кочует по книгам и фильмам. Но у России был такой выход! Он достался от Великого Новгорода. То была территория от реки Нарва до Карельского перешейка. На берегах Невы отстаивал новгородские рубежи еще князь Александр, прозванный по месту битвы со шведским отрядом – Невским.
Эффективность балтийского «окна» затем доказал Петр I, построив на берегах Финского залива город-порт Петербург. К тому же размеры внешней торговли не требовали незамедлительного расширения выхода к Балтийскому морю. Достаточно было захватить Нарву, через которую в то время шел основной внешнеторговый грузопоток. Для этого глобальную войну начинать не требовалось. Планов строительства флота историками в документах и свидетельствах современников не обнаружено. Да их и не было, ибо в большом флоте особой необходимости не наблюдалось. Достаточно было обычных торговых судов. Зато в послании к своему бывшему сподвижнику князю Курбскому, бежавшему в Литву от неминуемой расправы, Иван писал, что не будь их, «предателей», то Германия стала бы православной в один год. Налицо форменная внешнеполитическая фантазия.
Так зачем надо было добиваться выхода к морю, через территорию другого государства, когда были свои возможности? Спору нет: Ревель (Таллин) и Рига были удобными портами. Но вот что любопытно: Ревель войска царя осаждали всего один раз за всю войну и отнюдь не в ее начале. И Ригу попытались взять всего один раз. Основные же боевые действия московские рати вели в глубине будущей Эстонии, да еще у Полоцка (нынешняя Беларусь). Так что речь надо вести не о борьбе за выход к морю, а о чем-то другом. Об экспансии. Территориальная экспансия – дело вплоть до середины ХХ века вполне традиционное. И передел границ было в те времена занятием богоугодным и понятным. И вести следует речь не об оправдании территориальных приращений, а о том, как это было сделано с точки зрения качества управления. А сделано это было Иваном IV плохо.
Начатое, благодаря влиянию Адашева и Сильвестра, наступление на остатки Золотой Орды приостановилось и сменилось конфронтацией с Западом. Советники отнюдь не жалели о гибели Ливонского Ордена. Просто всему свой черед. Это должно было произойти после решения «восточной проблемы», как наиболее важной для растущей России. Перефразируя известные слова Ломоносова, политику группы Адашева-Сильвестра можно выразить формулой: «Русь должна прирастать Востоком» (можно еще добавить: «и усиливаться Западом». Тогда это было бы полноценным развитием курса Ивана III). Поначалу так оно и происходило, и это был объективный процесс. Вот вехи территориального расширения Руси: сначала Поволжье, затем Урал и Западная Сибирь (Башкирия приняла протекторат России в середине 1550-х, сибирский хан Едигер обратился с аналогичной просьбой в 1555 г.), затем Восточная Сибирь, потом Дон, Кубань… Все эти завоевания и приращения происходили в период с 1552 года по середину следующего ХVII века. И лишь после этого пришло время для борьбы за земли на Западе. По существу, группа Адашева и Сильвестра выступала за естественную экспансию российского государства, без авантюризма во внешней политике, выбирая для атаки наиболее слабых на данный момент противников.
Иван IV, в отличие от своих советников, оказался плохим стратегом и плохим государственным деятелем, что не помешало последующим выразителям «восточной линии» раздуть его величие.
«Избранная рада», как называл круг советников царя князь А. Курбский, стояла за дальнейшее эволюционное развитие государства в традициях идущих от Ивана III. Об этом свидетельствуют государственные реформы, проведенные в 50-е годы руководителями «избранной рады». В 1550 г. была составлена новая редакция Судебника, обновившая Судебник 1497 г. Это была важная веха в становлении нормального государства, ведь Судебники являлись правовыми кодексами, ограничившими произвол местной администрации общегосударственной юридической системой. Правовой кодекс – элемент гражданского общества, и то, что реформаторы «избранной рады», как только получили доступ к власти, незамедлительно занялись правовыми вопросами, делает честь государственному чутью и направленности их взглядов. В то же время он объективно ограничивал самодержавие.