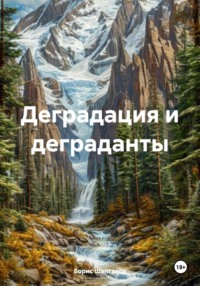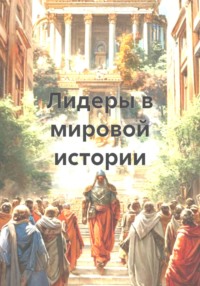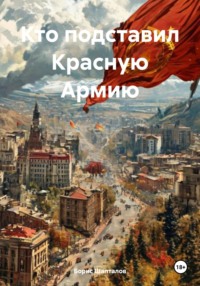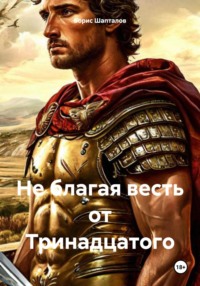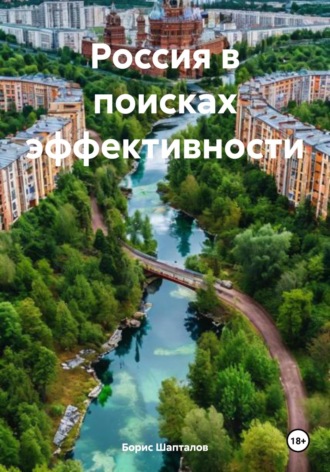
Полная версия
Россия в поисках эффективности
Связи между Литовско-Русским государством и Северо-Западной Русью, в том числе Московским княжеством, несмотря на усобицы, не прекращались. Из Литвы на Русь и обратно при возникновении «пиковых ситуаций» переселялись местные феодалы. Шел постоянный обмен «кадрами», которые занимали по обе стороны искусственной границы не последние должности. Например, после разгрома ордынцами московского войска в 1437 году оборона Московского Кремля была возложена на князя Юрия Патрикеевича, выходца из Литовско-Русского государства, женатого на сестре великого князя Василия II. Тот свою задачу выполнил. Врагу Кремль взять не удалось.
Преодолеть растущую пропасть и взаимную нетерпимость между католическим Западом и православным Востоком пытались и по религиозной линии. В 1439 году митрополит русской церкви Исидор подписал унию с католической церковью, примирявшую обе ветви христианства. Русская православная церковь должна была признать теократическое верховенство римского папы, но продолжать вести обряды по сложившимся византийским канонам. Московский князь Василий II отверг соглашение. В отличие от киевского князя Владимира московский князь чужеземной власти признавать не хотел. Исидор был лишен митрополичьей кафедры. Так Россия «счастливо» избежала будущей Реформации и протестантства и, соответственно, утратила еще одну многообещающую историческую альтернативу.
Но даже после этого окончательного религиозного разрыва связи с Литвой не прекращались. В 1452 году великий князь Василий II поручил польскому королю и великому литовскому князю Казимиру в случае его смерти заботу о его жене (литовке по происхождению) и детях (полулитовцах по крови) до их совершеннолетия. Это завещание еще одно свидетельство родовой общности двух государств, осознаваемое и в правящим классе.
Зажатая с трех сторон Польшей, Орденом и Московией, Литва, как оказалось, проглотила больше, чем могла переварить и не смогла сохранить свое независимое существование. Полным ходом шла ассимиляция литовской правящей верхушки, столкнувшейся с вечной проблемой завоевателей, стоящих на более низкой культурной ступени, чем завоеванные. Тем самым, существовала благодатная почва для политических комбинаций. Однако Московская Русь практически не пыталась распространить свое культурное и политическое влияние на западные земли бывшей Киевской Руси. А возможности были. Местные православные феодалы при конфликтах с литовской властью бежали в Москву, и государство обзаводилось новыми служилыми фамилиями – Бельскими, Воротынскими, Одоевскими, Новосильскими… Другие феодалы, вроде Вишневецких, искали союза с Москвой. Но толку от таких отношений оказывалось немного. Тогда определилась еще одна сквозная особенность московского, а затем российского государства – неумение обеспечить свое лидерство тонкими методами – культурными, идеологическими и тем более экономическими. «Азиатская» природа московского государства мешала настроиться на такие способы обеспечения своего влияния. Тогда как Запад… Но об этом позже.
Окончательный отход Литовско-Русского государства произошел в царствование Ивана IV. Начав преждевременную войну с Ливонией, он сделал своим врагом и Литву. Если бы Иван IV двигался не на запад, а на восток и юг, то Московия была бы естественным союзником Литовско-Русского государства. Прекращение династии Ягеллонов в 1572 году давало Ивану неплохой шанс стать литовским великим князем. Даже находясь в состоянии войны с Москвой, туда дважды выезжали делегации с зондированием возможности приглашения на трон Ивана IV или его сына. Однако нетерпимость и угрозы Ивана IV вынудили большую часть литовско-русской элиты, включая феодалов православного вероисповедания вроде князя Острожского, который контролировал огромные земли на Украине, пойти на тесный союз с Польшей.
Католик и бездетный король Сигизмунд II настаивал на переходе от личной унии Ягеллонов с Польшей, заключенной в 1369 году, на государственную, что гарантировало сохранение федерации. Тем самым поляки требовали преобразования литовско-русского государства в польско-литовское, с преобладанием польских законов и затем, католицизма как государственной религии. Споры на объединительном сейме шли ожесточенные. «Сейм 1569 г. в Люблине полгода рассуждал об унии. Литовские послы уехали даже с сейма, но важнейшие западнорусские вельможи (князь Острожский и др.) стали за унию, и она состоялась. Власти Ивана Грозного была предпочтена потеря национальной самостоятельности» (7. С.434).
Литовское наследие переварилось, но не русскими, как должно было бы быть по логике вещей, а поляками.
Уния 1569 г. подвела черту под Литовско-Русским государством. Хотя уже последней искрой в 1576 г. среди претендентов на неожиданно освободившийся литовский трон рассматривалась кандидатура Ивана IV. И это несмотря на длившуюся к тому времени почти полтора десятка лет войну между обеими государствами! Вот какие прочные связи существовали и между западной и восточной частями Руси и как долго они отмирали!
(Забегая вперед отмечу, что ныне ситуация с Беларусью и Украиной практически такая же, как и в средние века. И верхи России, что показательно, ведут себя фактически так же, как во времена Московского княжества, что способствует «уходу» Беларуси и Украины на Запад. Это пример злободневности истории для России в силу ее движения по «кругу».)
(Примечание. Написано в 2003 году, но, к сожалению, прогноз оказался верным. Что значит осознать логику истории!)
Итак, литовский объединительный вариант завершился в ХVI веке из-за того, что литовцы в силу своей малочисленности и культурно-идеологической отсталости, не смогли вести бывшую Киевскую Русь дальше и сдали свои полномочия другому этносу, обладавшему необходимой силой – полякам. В то же время Москва сохранилась в качестве второго объединительного центра, потому что располагала обеими факторами – этнической укорененностью и сильной идеологической парадигмой.
Литовско-Русское княжество имело перед Москвой и Северо-Восточной Русью одно существенное преимущество – полную независимость. Русским князьям приходилось ездить в Орду за великокняжеским ярлыком. Причем утверждение на старшинство шло в острой конкурентной борьбе с другими претендентами. Получение ярлыка всегда сопровождалось большими расходами, усиленной выплатой дани и дополнительными поборами с населения. Соперничество князей приводило к возобновлению вассально-даннических отношений с Ордой, даже несмотря на ее ослабление. И что еще хуже, нередко оборачивалось прямым предательством своей страны, когда князья приводили на Русь войска кочевников для участия в своих разборках. (Например, в 1411 г. суздальский князь привел на Владимир ордынцев, которые разграбили и сожгли город и его окрестности. Этот факт отражен в одной из новелл фильма А. Тарковского «Андрей Рублей»).
Казалось бы, ужас подобных нашествий должен толкать людей к объединению с Литовско-Русским государством. Однако господствующий класс оказался крепко завязан на Орду. Земли Западной Руси счастливо избежали этой участи, перейдя под крыло литовских князей. Фактор спокойствия в землях бывшей Киевской Руси, вроде бы, должен был дать им огромное преимущество перед Москвой. В Литовско-Русском государстве не практиковался террор виде набегов ордынцев, не было такого вида морального разложения правящей верхушки, как предательство. Внутреннее спокойствие и нормальная власть должны были способствовать дальнейшему усилению и возвышению Литовского княжества. И как будто бы так оно и получалось. В 1395 г. великий князь Ягайло, женившись на польской королеве, расширил границы своего государства путем соединения с Польшей. Достаточно взглянуть на карту с границами того времени, чтобы убедиться: рядом с Северо-Восточной Русью появилась потенциальная европейская сверхдержава. Именно «европейская» по своей культурно-духовой ориентации и социальным порядкам, и именно «сверхдержава» в силу своих огромных размеров, значительности населения, экономических и военных возможностей. Уже вскоре она показала свою силу в Грюнвальдской битве 1410 г., наголову разбив войско своего давнего противника Тевтонского Ордена.
В 1440 г. была заключена польско-венгерская уния с сыном Ягайло Владиславом III (1434-1444). Владислав стал венгерским королем. И хотя со смертью Владислава III, погибшего в битве с турками, уния не возобновилась, но в 1471 г. была установлена чешско-польская династическая уния. Эти династические браки показывают, сколь велик был авторитет нового государства. Казалось, еще немного и сверхдержава состоится. Но время шло, брачно-династические комбинации сменяли одна другую, но польско-литовско-русское государство так и не явило миру ничего сверхмощного. Оно оставалось конгломератом земель, а не цельным, целеустремленным государством. Зато пусть медленно, но верно всходила звезда московского княжества. И в этом обстоятельстве заключался парадокс. Такого быть не должно! Вассальное, небольшое государство, без развитой экономики, с далеко не передовым политическим устройством, без выхода к морям и, значит, без связей и помощи извне, вдруг с середины 1400-х годов набирает исторический темп, выведший его в число крупнейших стран мира. Говоря спортивным языком, к финишу пришла «темная лошадка». Фаворит же выдохся на середине дистанции. Почему произошло именно так?
Если присмотреться к сверхдержаве, созданной Ягайло и польской правящей элитой, то стоит обратить внимание на следующий момент: это государство, несмотря на всю свою потенциальную мощь, не сумела решить ни одной логически вытекающей из ее геополитического положения задачи. Она не смогла присоединить Прибалтику, занятую Тевтонским Орденом. Она не вышла на морской простор, удовлетворившись узким выходом к Балтийскому морю у Вислы и проигнорировала возможность пробиться к побережью Черного моря. Не смогла подчинить Северо-Восточную Русь. Зато совершались походы вглубь балканского полуострова, где вряд ли бы удалось закрепиться даже при благоприятном исходе кампании. Отсутствие целенаправленной внешней экспансии (роста вширь) не компенсировалось серьезным внутренним экономическим развитием (ростом вглубь). Польско-литовский конгломерат оставался традиционным феодальным, а значит слабым государством и сугубо сельскохозяйственной страной с краплениями ремесленных центров, вплоть до своей гибели так и не сумевшей перейти к стадии мануфактурно-промышленного производства.
Иначе распорядились своими скромными возможностями московские князья. Московское княжество без устали проводило довольно активную экспансию. Если Польско-Литовское государство веками терпело на своих границах враждебный Тевтонский Орден и пальцем не пошевелило, чтобы разбить рядом расположенное враждебное Крымское ханство, то едва оформившееся Московско-русское государство, как только появились силы, разгромило Золотую Орду и двинулось дальше. Оно не терпело на своих границах сильных противников. (Позже – в XIX веке – ситуация изменится…).
Отгадка исторического парадокса возвышения Москвы заключается в том, что ее правители оказались настроенными на долговременную и неустанную экспансию.
Экспансия – это показатель силы и активности правящего класса, его способности решать сложные задачи. Экспансия предъявляет повышенные требования к политической организации правящего класса. Невозможно быть удачливым экспансионистом при безалаберном, малоэффективном управлении. Эффективность должна проявляться через какие-то механизмы: через централизм государственного управления (что дает концентрацию сил и средств в одних руках) или гибкость составляющих государство политико-экономических субъектов. Если экспансия не удается, значит, в государстве нет механизма «воспроизводства эффективности». Так получилось с Речью Посполитой. Большие размеры и возможности государства не подкреплялись надлежащем уровнем управления.
Воля к экспансии является и средством прогресса. Без экспансии не были бы открыты Америка и Австралия, не освоена Сибирь, не возник бы мировой рынок и т.д. Любое сильное государство – экспансионист. Не обязательно это военная экспансия; экспансия может быть экономической, культурной, религиозной или в сочетании этих направлений. Без экспансии маленькое, незаметное Литовское княжество не выросло бы в великую державу Восточной Европы. Но если правящий класс крупного государства предпочитает спокойную жизнь вместо борьбы, если не стремится или не умеет расширяться, оно начинает загнивать.
Экспансия – это своеобразный тренаж для правящего класса. Средство против дряблости. Те государства, что отказывались от активной наступательной политики, вроде средневековых Китая, Японии, Индии, в итоге сами становились жертвами более напористых конкурентов. Данное суждение не означает, что правящая элита должна бездумно воевать по любому поводу. Оголтелая агрессивность есть прямой путь к поражению и истощению государства. Но в средние века, и вообще в доиндустриальную эру, без военных кампаний нельзя было решить многие насущные политические вопросы. Просто потому, что если не воевал ты, то воевали с тобой. Разумеется, Польско-Литовское государство не исповедовало теорию миролюбия. Оно воевало и с оборонительными целями, и с завоевательными. К блестящим оборонительным сражениям относятся сражение при Грюнвальде в 1410 г. и битва под Веной в 1683 г., когда войско Яна Собесского разбило турецкую армию и спасло Австрию. Пытался правящий класс проводить и экспансионистскую политику. Самый яркий тому пример – попытки посадить на венгерский, чешский, а затем и московский престолы своих представителей. Но, во-первых, эти планы провалились; во-вторых, то были эпизоды в череде довольно бесцветной и в целом малоудачной внешней политики польско-литовского государства.
Как показывает исторический опыт, государство или политический режим с выдохшейся энергетикой не жилец. Польско-Литовское государство (с 1569 г. оно стало называться Речью Посполитой) не сумело реализовать свой потенциал. Итог: расчленение и гибель государства.
Московское княжество, а затем его правопреемница Россия, стали антиподом Литовско-Польского государства не только в сфере внешней политики. Своеобразное соревнование двух объединительных центров Восточной Европы шло и в сфере социального устройства. Москва двигалась по пути самодержавия. В России шел процесс централизации государственного управления и подчинения сословий государственной власти и ее интересам во главе с царем.
На этом фоне Польско-Литовском государство выглядело более привлекательно. В нем возобладала феодальная демократия в либерально-парламентском варианте. Парламент – Сейм – собирался регулярно. Он состоял из двух палат. Как и полагалось в феодальную эпоху, верхняя палата (сенат) формировалась из представителей светской и церковной аристократии – магнатов, нижняя из мелкопоместного дворянства – шляхты. В 1501 г. аристократии удалось добиться принятия так называемого Мельницкого привелея, поставившего королевскую власть под контроль сената. С абсолютизмом было покончено. В 1505 г. шляхта добилась принятия Радомской конституции, по которой новые законы могли издаваться лишь с согласия обеих палат. Сейм стал полноценным законодательным органом. Литовско-Польское государство теперь имело все слагаемые для успеха – огромную территорию, большие потенциальные ресурсы, передовую демократию… Но ничего путного не получилось.
В конце 1980-х гг. появились статьи и книги по истории, где авторы разбирали упущенные демократические возможности России, начиная с Московского княжества. Анализировалась практика Земских соборов, договорных отношений между кандидатами на престол и сословиями и т.д. После краха перестройки такие работы практически исчезли. Выяснилось, что демократия сама по себе не гарантирует стране процветания и умной внутренней и внешней политики. И опыт Польско-Литовского государства тому доказательство. История, оказывается, «не любит» однозначности и предопределенности. Всегда есть варианты, и они всегда неоднозначны.
Ее величество История предоставила уникальную возможность народам Восточной Европы испробовать оба варианта событий, два пути эволюции. Что же получилось в итоге? Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что литовский вариант не состоялся. Литовское государство было поглощено Польшей. В свою очередь не состоялся и вариант польско-литовско-русского (украинского) государства. Речь Посполитая была поглощена соседними державами, включая Россию. А Московия расправила крылья, да еще как – от Вислы до Тихого океана! Но и «московский вариант» в конце концов оказался не самым лучшим. Россия надолго выпала из европейского цивилизационного потока и нажила себе неизлечимую «азиатскую» язву, от которой ее государственный организм мучается уже на протяжении многих веков, и уже ясно, что это «родимое пятно» будет существовать, пока существует российское государство.
«Московский вариант» родил крепостничество в самом варварском варианте (в Европе людьми не торговали), отмененное в один год с рабством негров в США. 70 лет коммунистического эксперимента, как отчаянную попытку «выбиться в люди», в ходе которого были истреблены миллионы людей, не смогло решить вековую задачу – догнать Запад. И, наконец, очередная попытка походить на демократический Запад в ходе горбачевской перестройки закончилась распадом государства. А нынешняя (ельцинская) вариация больше напоминает шарж на западное гражданское общество.
«Московский вариант», несмотря на все первоначальные успехи, оказался выбором модели вечно догоняющей цивилизации. Поневоле общественная мысль России вынуждена была задуматься над сложностями своего развития и выработать какую-то целостную, «всеобъясняющую» концепцию.
4. «Вечная» альтернатива: Восток или Запад?
Суть проблемы противостояния
Те узелки, что завязались в эпоху Орды, российское общество будет осмысливать и по возможности развязывать, а в отдельные периоды еще туже затягивать, на протяжении многих столетий. «Орда» превратится в своеобразный кодовый знак-символ исторической судьбы России. Кроме того, станет орудием в идеологической борьбе. Так власти нынешней Украины обосновывают свой разрыв с Россией, обвиняя ее в том, что, в отличие от «европейской» Украины, та – «Орда»! (При этом сама Украина на деле является не «европой» и не «азией», и даже не среднее между ними. По управленческому менталитету она особый вид – паразитарный).
Что собственно произошло? Разве другие страны не попадали под чью-то зависимость и не испытывали чужеземных влияний? И не страдают ли излишней драматизацией описание взаимоотношений Руси с Ордой, ведь общество развивается по своим внутренним законам и может ли всерьез и надолго повлиять на судьбу народа персона князя, хана или царя? Каково соотношение между объективными и субъективными факторами в истории стран и России в частности? Не остановившись на этих вопросах, вряд ли целесообразно двигаться дальше в хронологической последовательности, исследуя зигзаги исторической судьбы России.
Для любой развитой культуры, и государства (а наличие государства есть культура политическая и показатель зрелости народа) встает проблема самоиндефикации в виде поиска ответов на вопросы: «кто мы?», «что мы можем?», «куда надо стремиться?» Это приводит к целому вееру ответов в зависимости от интеллектуальных предпочтений людей, ведущих такой поиск, от запросов практики, а так же требований, предъявляемых к ним со стороны власти. Особенно в сложном положении оказывается то государство, которое, после благополучного этапа развития вдруг терпит поражение, столкнувшись с соперником, избравшим другую, презираемую данным государством, парадигму развития. Вместе с поражением возникает осознание необходимости кардинальных перемен, в том числе заимствования у врагов. Тогда общество испытывает не только политический, но и культурный шок. Осознание, что кто-то лучше «нас» вызывает сильную интеллектуальную рефлексию в мыслящей среде общества и у самой власти, которой надо объяснить народу причину своей неожиданной несостоятельности. Ответ дается по одной и той же схеме, будь-то Китай, Япония, Иран или Россия. Ответ на вызов неизбежно расщепляет интеллектуальную часть общества на две основные линии. Одну можно назвать модернизаторскую, другую – самобытническую.
Модернизаторы признают закономерность отставания своего общества от ушедших вперед конкурентов и в качестве главного рецепта предлагают различные варианты перенимания чужого опыта. На этом единство между модернизаторами заканчивается и начинаются расхождения вплоть до абсолютно непримиримых. И впрямь: что может быть общего между такими модернизаторскими течениями, как буржуазные либералы и коммунисты? Проблема усугубляется тем, что все предлагаемые модернизаторами варианты вполне реализуемы по той простой причине, что они опираются на уже имеющиеся образцы. Особняком стояли коммунисты со своей мечтой об идеальном обществе равенства, к которому многие стремились (христиане, мусульмане, утописты светских учений). Однако у власти удерживаются не идеалисты, а прагматики, и прагматизм большевиков заключался в том, что основу общества будущего они видели в таких рациональных вещах, как индустриализация, развитие науки, образования, культуры. И все же, несмотря на модернизаторство, идеология коммунизма – тот случай, когда крайности смыкаются. В своей утопической части коммунисты близко подходят к другой магистральной линии – к «самобытникам».
Самобытники пытаются снять проблему вызова утверждением, что их местная культура уникальна и, несмотря на поражение, значительно выше и ценнее, чем у соперников. Эта «особость» определяется куда более высокой духовностью, чем у противников, что связано с особым качеством национальной (исламской, буддийской, православной, синтоисткой, конфуцианской, тотемной) религиозности. А сам народ и его государство являются носителями особых нравственных, культурных качеств, ставящих их выше врагов-соперников. Вот характерный образчик таких идеологических конструкций, выбранный мной как типичный из коллективного сборника преподавателей Московского университета, рекомендованного, как заявлено на титульном листе, Министерством общего и профессионального образования Российской федерации для студентов в качестве учебного пособия: «Из православия и общинных традиций выросла главная черта русской цивилизации – соборность, т.е. устремление к высшим духовным ценностям, к абсолюту, существующим в единстве Истине, Добру и Красоте (так в тексте – прим. Б.Ш.) и склонность к общественному во всех сферах человеческой деятельности… Отразилась соборность и на национальной культуре труда. В отличие от Запада, где утвердилось формально-догматическая трактовка труда как проклятия Божия (!?), в православии труд рассматривался как нравственное деяние, как одна из форм подвижничества, личного и соборного спасения». И далее: «Русская цивилизация развивалась на своей собственной основе, обусловленной Православием, ландшафтно-экономическими особенностями и полиэтничностью» (8. С.447-449).
В том же ключе идеализация «своего» и принижения вкупе с редукцией «чужого» описываются самобытниками цивилизационно-культурные составляющие своего народа в других отстающих стран мира. Все эти конструкции, как заметит любой здравомыслящий человек, очень условны, идеалистичны, мало связаны с реальностью, противоречат многим фактам. Но перед их авторами и не стоит задача анализировать подлинную реальность. Их задача ее создать, как создавали ее идеологи в советское время, описывая трудовой подъем трудящихся в ответ на призывы ЦК КПСС, их сознательность и стремление развернуть как можно шире социалистическое соревнование за перевыполнение плана к юбилейной дате. Другой способ конструирования «особого пути» – это мифологизация исторической роли своей страны. Вот показательное описание «польской идеи», данное польским культурологом Анджеем Василевским: «Пока продолжалась эпоха рабства (имеется в виду период потери Польшей независимости – прим. Б.Ш.), на первый план выдвигалась борьба с захватчиками, возводящая в ранг национальной святыни даже самые странные идеи, лишь бы они предпринимались с патриотическими намерениями. Мессианство, в духе приходского учения о Польше как избраннице божественного провидения… были воспринято великими поэтами-романтиками, которые подкрепили его своим авторитетом и сделали поэтическим каноном. Под накалом самых высоких страстей национальному патриотизму были привиты понятие Польши как Христа народов, невинно страдающей ради спасения мира, пристрастие к мученичеству… Короче говоря, наша психологическая структура независимо функционирует в замкнутом круге: исключительность осуществляется с помощью чудес, а чудеса еще больше подчеркивают исключительность… Кто сосчитает те вдохновенные декларации о наших моральных преимуществах и миссиях, о средиземноморском «мосте», ведущем на Восток, о направленных на нас глазах всего мира, о всеобщем восхищении наших действий, на которые никто не мог бы решиться?» (9. С.146-147). Знакомые мотивы? Задача идеалистических конструкций самобытников проста – требуется снять проблему комплекса неполноценности, перенеся конкуренцию с удачливыми соперниками в другую плоскость, где самобытники уже точно не будут чувствовать себя ущербными. Разработка таких «плоскостей» – главное направление усилий цивилизационных неудачников всего мира. И на этом пути, надо признать, у них есть немало интеллектуальных достижений, доставивших бы истинное удовольствие софистам Древней Греции. Некоторые конструкции и впрямь изящны, будируют мысль и стимулируют дальнейшие исследования. Так, историософ Л.Н. Гумилев собрал огромный материал по кочевым народам, пытаясь, в частности, доказать благотворность влияния Степи на Русь и другие оседлые народы. Но опровергнуть устоявшийся в науке тезис о цивилизационной бесперспективности образа жизни кочевников (при всем его своеобразии и ценности как цивилизационного феномена на определенном этапе человеческой цивилизации) ему так и не удалось. Городская культура победила и кочевничество сохранилось лишь в экономически отсталых странах. Такой результат можно было бы предсказать заранее, чтобы не тратить время и силы на бесперспективную теорию. На деле же подобного рода попытки были, есть и будут предприниматься в дальнейшем. Причина экстравагантных усилий Л. Гумилева заключалась в том, что ученый разделял евразийскую концепцию развития России, по которой России надлежало соизмерять свою эволюцию не с европейскими нормами и достижениями (где она порой выглядела не лучшим образом), а с восточными. Эта теория давала возможность отвергнуть обвинения в цивилизационном отставании страны и говорить о самодостаточности и особом пути ее эволюции. Евразийство – героическая попытка выдать бедность за добродетель.