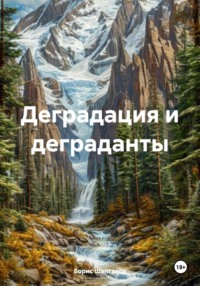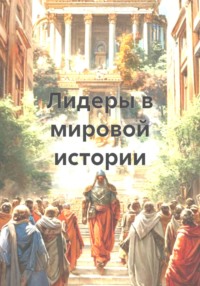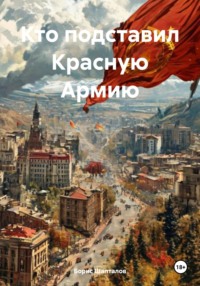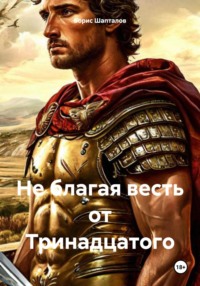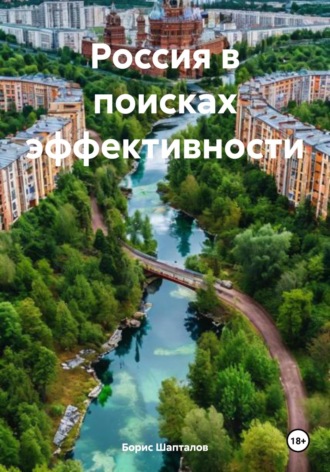
Полная версия
Россия в поисках эффективности
Несмотря на отсутствие весомых фактов, теорию «осадной крепости» поддержали, например, известный философ и логик А. Зиновьев: «Благодаря революции страна совершила беспрецедентный рывок вперед… Это напугало Запад, и он с первых дней существования русского коммунизма вел упорную борьбу против него» (12. С.31). Правда, непонятно, откуда Западу стало известно, что русский коммунизм совершит беспрецедентный рывок, из-за чего «с первых дней» пришлось начинать борьбу с ним. Как раз наоборот, западные державы оказали слабую помощь белым армиям именно потому, что большевики взяли курс на расчленение бывшей империи, провозгласив право все народов на самоопределение. И как понять тогда большую материальную помощь США и Великобритании в годы Великой Отечественной войны, которая продолжалась вопреки классовой логике до мая 1945 года? А также во время индустриализации 30-х годов, когда западным оборудованием с привлечением многих сотен зарубежных, прежде всего германских и американских, были оснащены десятки гигантов индустрии, вроде Сталинградского тракторного или Магнитогорского металлургического комбината? А массовый завоз передового оборудования в 70-е годы – годы разрядки? Но мысль ясна – «мы во вражеском окружении Запада». И ни кого-то просвета никогда не было. Вернее, лучше не помнить, а спрямить историю под простенькую идеологическую схему.
Это не просто цитаты – мало ли кто и что может написать, – а вербальное выражение настроений определенной категории людей, и эти настроения могут реализоваться при определенных условиях в политике. Победи Жириновский в первой половине 1990-х годов, к чему были предпосылки, и государство вновь вернулась бы к режиму жизни «осажденной крепости».
(Вставка 2017 г.) Тезис о России, как «осажденной крепости», имел и имеет достаточно широкое хождение. Особенно активно он культивировался и внедрялся в массовое общественное сознание большевиками и при социализме стал частью государственной идеологии. С 1999 года, после агрессии НАТО против Сербии, этот тезис получил второе дыхание. А после введения санкций в 2014 году вообще стал аксиомой, благо что мало кто анализировал то, как Кремль «добивался» этих санкций (подробно см. мою книгу «Изнанка украинско-русского конфликта»). Ведь это давало шанс спасти умирающую экономику от импортного удушения и консолидировать общество вокруг власти (а как иначе может быть в осажденной крепости?) на фоне «кое-каких проблем». Показательно, что тот же пропагандистский курс на «осажденную крепость» выбрало руководство Украины (осаждающие – это, конечно, Россия). Ведь нельзя же признать, что если провести свободный референдум, то треть территории пожелает выйти из состава украинского государства.
При этом следует отметить, что Запад давно выбрал Россию в качестве «плохого парня», что также позволяет консолидировать общество вокруг тезиса «угрозы с Востока». Современным США просто ничего не остается как видеть в России врага, как необходимом условии сохранении НАТО. Без наличия серьезного противника это блок обречен на умирание, а политическое влияние Вашингтона на уменьшение. Так что обе властвующие стороны – и российская стороны и западные политики (не говоря уже о политиках Эстонии, Латвии, Польши, Украины) – кровно заинтересованы в обоюдной игре «мы вас боимся, а потому…».
Итак, соотнося себя с Западом, как с кривым зеркалом, державное общественное сознание смогло вычленить следующие основные особенности российской государственности:
1. Россия вынуждена была обогнать европейские страны по концентрации власти в руках государственных органов. Так было и так должно быть и дальше.
2. Россия на протяжении веков жила подобно «осажденной крепости». («Русская цивилизация складывалась и развивалась в тяжелых, главным образом, оборонительных войнах». – 8. С.446).
3. Своеобразие исторического пути предопределило особый путь страны и, возможно, формирование особой цивилизации.
Если принять эти выводы, то остается осмысливать «особый путь» России, одинокой странницей бредущей по лунному пути к одной только ей известной потаенной цели. Но ежели усомниться в них, то вместо романтики приходит сожаление об утерянных возможностях нормального общественного развития и начинаются поиски возможностей наверстать упущенное, как это сделали другие страны с «восточным» цивилизационным кодом – Япония, Ю. Корея, Тайвань, (в определенной мере) Германия, Италия, Испания, а ныне Китай.
Идейная борьба вокруг проблемы «Россия: Восток или Запад?»
Вариант трактовки национального пути России, как «особого», ни на что не похожего, породил такие идейно-философские исторические направления в русской общественной жизни, как славянофильство, «почвенничество» и близкие им по духу течения, условно называемые «державники» или «национал-патриоты». Противовесом выступали либералы-западники. Эта идейная борьба, переходящая время от времени в борьбу организационную, идет со времен Петра I со своим сыном Алексеем и по наши дни, что говорит о жизненности (вот уже три века!) одной и той же проблемы самоидентификации: «Мы» – Европа, или «Мы» сами по себе? За ответом на этот вопрос следует другой: какая управленческая система нужна стране и какие цели перед ней должно ставиться?
Понятие «славянофилы» – малоудачное определение, от которого открещивались даже некоторые идеологи этого течения вроде И. С. Аксакова. Ведь представители этого идейного течения делали упор на православную духовность и московско-княжеский вариант исторического развития восточного славянства. Чехи, поляки, словенцы, хорваты тоже славяне, но эти народы целиком включены в европейско-католическую культуру. Поэтому правильнее говорить о «славянофилах православной ориентации». Громоздко, но хотя бы точно отражает суть дела.
Те, кого окрестили расплывчатым именем «славянофилы», интересны тем, что они предприняли первую идейно оформленную попытку найти альтернативу европеизации России, а значит европейской системе экономической и государственной эффективности. Поиск, охвативший период с 20-30-х годов ХIХ века и примерно до конца 1870-х годов, ничего существенного не дал. Внятной альтернативы сконструировать не удалось. Россия последовательно теряла духовные и даже политические связи со славянскими народами. Ныне потеряны поляки, чехи, словаки, болгары и даже отчасти сербы, ради которых ввязались в войну в 1914 году. А теперь украинцы…
Затем поиск повторился в ХХ веке: в эмиграции, в виде кружка евразийцев, а в СССР – идеологии «державников», охватывавший узкий круг столичной интеллигенции с совсем уж малочисленными «филиалами» в провинции. Эти люди получили известность лишь потому, что имели свои журналы – «Наш современник» и «Молодую гвардию». Их усилия в создании позитивной теории и тем более практики успехом также не увенчались. «Прославились» ее представители прежде всего тем, что главные беды России увидели в происках сионизма и масонов. Почему эти злые силы имели прямо-таки сногсшибательный успех у значительной части русского народа, безропотно-мазохистски повесивших их на свою шею, в этих сочинениях не объяснялось. Просто перечислялось сколько евреев было после революции в органах власти – и все. По этой ли причине или какой другой, ксенофобия в среде русского народа успеха не имела и все осталось на уровне бытовых разборок. Пассивен остался он и к теоретическим построениям о судьбоносности общинного пути развития страны. В общинах-колхозах селяне жить еще могли, но вот давать производительность труда, приближающуюся к мировым стандартам, почему-то упорно не желали. А без этого деятельность «почвенников» выглядела обыкновенным ретроградством, не имеющим исторической перспективы.
Любимой темой «почвенников» было перечисление ужасов феодальной Европы по сравнению с Русью. Список получался внушительным и показательным. В одну только в Варфоломеевскую ночь 1572 г. вырезали больше людей, чем Иван Грозный за все свое царствование. А в период «огораживания» в Англии с крестьянами обращались хуже, чем крепостники-помещики в России. Однако перечисляя все эти преступные деяния, авторы «забывали» о следующей существенной детали: та Европа в ХХ веке пришла к гражданскому обществу, а Россия – к резне 1918-1920, 1930-х гг. и «огораживанию» времен коллективизации. В этой эволюции вся разница между «азиатским» и «европейским» кодом цивилизаций! Если Россия движется как бы по кольцу, меняя лишь исторический антураж, то Запад все же продвигался вперед.
Антагонизм либерального западничества и самобытников находил свое отражение во взаимной боевой критике. И следует признать, что критика последних по отношению к западникам нередко носила и носит вполне справедливый характер. Опыт вековой жизнедеятельности либерально-демократического движения позволяет обоснованно утверждать, что есть «демократы-созидатели» и «либералы-разрушители». Первые считают, что свобода в первую очередь нужна тем, кто создает товары, услуги, знания, т.е. людям предпринимательского труда. Для вторых свобода, по существу, есть право на ту жизнь, которую хочется в рамках принятых независимо кем и как законов. То, что свобода может действовать на общество разрушительно их почему-то не о волнует. Получается известный по некоторым странам эффект, когда не только «азиатский» цивилизационный код, но и внедрение европейства действует на социум негативно, как это получилось в России и Украине в 1990-е годы.
Российские либералы никогда не понимали главного: известный нам «Запад» создали не либералы, а жесткие и напористые демократы. Они захватывали земли, сколачивали колониальные империи, зачищали от индейцев северо-американский континент, а потом с той же неумолимостью создавали финансовые и промышленные компании, захватывая мировые рынки. Наши же либералы под лозунгом свободы торговли всегда готовы отдать внутренний рынок чужим, переступая грань, когда проповедь свободы переходит в предательство национальных интересов. Зато демократы Запада всегда рьяно защищали внутренний рынок от непрошенных гостей и соглашались на «свободу торговли» лишь после того как становились сильными. Их свободы всегда были следствием взаимовыгодного компромисса между сильными против слабых. А в России соглашения либералов с Западом всегда были отношениями слабых с более сильными и умными. Этой своей особенности наши западники так и не поняли, превратившись в ныне в типично компрадорскую группу, обслуживающую интересы других государств.
Победа всеобщего образования и либерализация доступа к средствам информации сделали невозможным существование в обществе целостного и единого мнения по социальным вопросам. Видение любой проблемы распадается на множество трактовок и оттенков мнений. В этих условиях доказать что-либо и прийти к единому знаменателю невозможно. В действие вступают факторы реальной силы в среде правящего класса. Потому литературно-философский спор в узкой среде интеллектуалов об особом пути России имеет небольшое практическое значение.
Есть ли у России свой особый путь? Конечно, есть. Как и у Италии или Новой Зеландии и любой другой страны.
Есть у России своя национальная специфика? Разумеется, как и у всех других.
А что общее? Различия между Исландией, Германией и Тайванем огромны. У Японии не менее «самобытный» путь развития капитализма, чем у Швейцарии. Но у них есть одна общая платформа, увязывающая все эти столь разные государства в рамках одной цивилизации. А именно: они в производстве и управлении используют одни и те же технологии и методы, которые были взяты не из своей самобытности, а из мирового опыта, синтезированного в лоне европейской («западной») цивилизации. Поэтому истинный демократ считает: пусть будет культурное своеобразие у людей Чукотки, Кубани и Вологодчины, но пусть у чукотского оленевода в кармане будет такая общемировая вещь, как мобильный телефон, а кубанский казак будет разъезжать на автомобиле по дорогам европейского качества. И чтобы все вместе они делали продукцию по мировым, а не по «самобытным» стандартам. Но эти обстоятельства зависят, конечно, не от историософов. Их дело понять, откуда что берется и какими реальными силами располагает общество. А уж от Власти зависит, воспримет она выводы или нет, а если усвоит, то как применит? А потому вернемся к истории России в поисках той опоры, что позволила немалому числу других государств успешно решить у себя проблему выбора.
Особый путь возрожденной державы
5. Жизнь по матрице восточной деспотии
Незнаменитый созидатель
Казалось бы, у государства, чьим символом стал иуда Иван Калита, выбившийся из мелких князей в главного ценой беспредельного угодничества и торговли национальными интересами перед – даже не завоевателями, ибо степняки не оккупировали Русь – а паразитарным кочевым союзом, у такого государства нет перспектив стать великим. Но произошло чудо. Первое в истории новой России. Оно связано отнюдь не с преимуществами победившего политического курса, как представляется иным исследователям, а с возвращением к прежней системе ценностей. Великий князь Иван III (княжил 1462-1505 гг.) решил покончить с политикой симбиоза со Степью и начал проводить сугубо самостоятельную политику. Причем в качестве образца развития государства вновь выбрал Европу. И судьба страны резко переменилась. Из окраинной, затерроризированной, она, после двухвекового застоя, в несколько десятилетий превращается в одну из сильнейших держав Восточной Европы.
В годы правления Ивана Грозного Россия 25 лет воевала с Литвой, Польшей, Швецией, Крымским ханством. Откуда у страны взялись силы на такое напряжение, если в былые времена не могла выдержать удара кочевых орд? Кто способствовал накоплению столь мощных национальных сил? Их вдохнул в народ не Иван IV. Он лишь тратил накопленную энергию и материальные ресурсы. Видные историки, вроде Н. Карамзина или С. Платонова, обращали особое внимание своих читателей на фигуру Ивана III. Именно с его царствования они связывали подлинное преображение страны и государства в державу.
Н. Карамзин в своем великом труде «История государства Российского» главу об Иване III начинает со слов: «Отселе История наша приемлет достоинство истинно государственной, описывая уже не бессмысленные драки Княжеские, но деяния Царства, приобретающего независимость и величие… …образуется Держава сильная, как бы новая для Европы и Азии…». В этих словах выражена суть происшедшего за 43 года царствования человека, наделенного подлинно государственными талантами.
Что конкретно Иван III совершил на своем посту? Начнем с того, что он стал первым великим князем, который ни разу не был в Орде и не просил там ярлыка на свое княжение. Но главное, Иван III провел несколько фундаментальных преобразований, определявших дальнейшую эволюцию государства и общества на несколько веков вперед.
Иван III заложил основы наступательной политики по отношению к Орде. В 1469 году русские войска совершили психологически переломный поход: впервые вторгшись в пределы ордынских владений, они осадили Казань. До войны с Казанским ханством Русь только отбивала нападения, не переходя свои рубежи. А в этом походе ставилась цель посадить на казанский престол своего союзника царевича Касыма. Хотя этот замысел не удался, так как взять крепость не хватило умения, но был заключен договор, по которому отпускались все русские пленники. Зачин был подхвачен снизу. В начале лета 1471 году отряд вятичей во главе с предводителем К. Юрьевым, пройдя на гребных судах вниз по Волге, внезапным ударом захватывает столицу Орды – Сарай и с добычей благополучно возвращаются назад. Это означает, что страх перед Ордой прошел. То, что было психологически невозможно для людей предыдущего ХIV века, становится делом обыденным для поколения Ивана III. Русь из пассивного объекта притязаний Орды стала активным субъектом по отношению к ее территориям.
В 1487 г. русское войско начало новый поход на Казань. Помощи попросил Мохаммед-Эмин, сторонник московской ориентации, в борьбе против своего брата. Теперь уже ордынцы приводили русские войска на свои земли, используя их в своих междоусобицах. Поход на этот раз оказался удачным. 9 июля казанская крепость была взята. Ханом стал Мохаммед-Эмин. Все получилось как 100-200 лет назад, только с точностью наоборот. Русские отряды теперь сажали на престол ордынцев, а великий князь Руси как бы давал на это свой «ярлык». Бывшая Владимиро-Суздальская Русь становится на путь экспансии, демонстрируя свое моральное выздоровление.
В княжение Ивана III произошло другое фундаментальное событие: Северо-восточная Русь от конфедерации княжеств, где московское княжество хоть и занимало центральное место, но стояло в ряду других юридически независимых княжеств и республик, также имеющих право претендовать на лидерство, перешла к статусу единого федеративного государства. Иван III начинал свое правление, окруженный русскими удельными княжествами – Тверским, Ростовским, Ярославским, землями Великого Новгорода и т. д., а закончил единодержавным правителем Руси. То есть он собрал в единое целое независимые княжества и централизовал управление ими.
В два этапа, 1471 и 1478 гг., была подчинена Новгородская республика, занимавшая особое место в политической структуре Руси. В 1471 году великий князь в считанные недели провел военную кампанию против Великого Новгорода, пожелавшего перейти под защиту Польско-Литовского государства (спохватились!), и подчинил его Москве. В 1478 г. в Новгороде была подавлена боярская оппозиция. Опальные бояре были лишены своих вотчин и отправлены на жительство под Москву. В Москву был отправлен символ независимости Новгорода – вечевой колокол, введен княжеский суд, отменен пост посадника. Новгородцы лишились права приглашать князей со стороны. Вместо этого из Москвы стали присылаться наместники.
В этой истории примечательны следующие особенности. На Новгород совершали походы Дмитрий Донской и Василий II. Они заканчивались наложением контрибуции с сохранением политического статус-кво. Для них Новгород – составная часть феодальной конфедерации Руси. Иван III отказывается от такого взгляда. Для него Новгород уже составная часть Руси, на которой он княжит как старший среди… неравных ему! С этих позиций – не традиционных, политически новых – он и подходил к привычным феодальным смутам. Иван III смотрел на них сквозь призму государя, на котором «завязана» вся страна. Вступив в отношения с польским королем, новгородцы, по мнению великого князя, совершили государственное преступление. Поэтому Иван III впервые не берет выкуп, а казнит новгородских бояр, которые подписали союзный договор с другим государством. Казнит за измену.
В 1485 г., в ответ на очередную попытку тверского князя вступить в союз с Литвой, последовал поход московского войска на Тверь. Тверской князь бежал в Литву. Город сдался без боя. Правителем княжества был назначен сын Иван III. Это означало фактическое присоединение Тверского княжества к… К чему? Политика Иван III не давала оснований для двусмысленности. Оно присоединялось не к Московскому княжеству, как это было при прежних московских князьях, а к создаваемому Русскому государству!
И другой показательный штрих. Польско-Литовское государство в очередной раз упускает выгодный момент, чтобы распространить свою власть на земли Новгорода и Твери. Оно опять не готово к войне, то есть к решительным действиям. Не готово к экспансии. Двуединое государство оказывается слишком рыхлым политически. Это тот случай, когда выбранный тип демократии (в данном случае феодальной) не усиливает, а ослабляет государство. Оно не поспевает за событиями, окончательно продемонстрировав, что не в силах претендовать на главенство в Восточной Европе и оспаривать претензии на гегемонию растущего амбициозного Московско-Русского государства. На просторах Восточной Европы со времени Ивана III началась очередная перегруппировка сил.
И еще один принципиальный рубеж пройден при Иване III: поход на Тверь – это последняя феодальная война на Руси. Остальные княжества (Ярославское, Ростовское и пр.) подчинились и перешли под прямое управление аппарата великого князя мирно. Лишь для присоединения Вятской земли в 1489 г. пришлось организовывать небольшую военную экспедицию. Но и там, в конечном счете, все обошлось. Вятичи в преддверии штурма их столицы, города Хлынова, согласились принять условия Москвы.
Третье фундаментальное преобразование, помимо перехода к внешней экспансии и формирования структурно единого государства, стал отказ от такого наследства феодальных времен, как удельные княжества.
До Ивана III великие князья передавали свои земли по наследству, как если бы это было движимое имущество, деля их между родственниками, что приводило к дроблению государства на уделы. Сама власть – великое княжение – передавалась чаще всего не от отца к сыну, а от брата к брату. Это провоцировало соперничество между наследниками и, как результат, вспыхивали междоусобные войны. Более 20 лет (1430-1450-е гг.) бушевали распри, переходящие в военные столкновения между внуками Дмитрия Донского в период княжения Василия II. В ходе этой борьбы были попраны все нормы морали – и родственные и религиозные. Василий II приказал ослепить одного из сыновей Юрия Дмитриевича, а несколько лет спустя брат изувеченного ослепил самого Василия II. В ходе этого противоборства грабились города и села, тысячами гибли люди. Каков итог? Победил Василий II. Почти все уделы, кроме одного – Верейско-Белозерского княжества, оказались в руках московского князя. Казалось бы, столь много натерпевшийся за свою жизнь (ослепленный, дважды побывавший в плену в результате предательства своих родственников) великий князь Василий сделает соответствующие выводы из прожитого и внесет очевидные коррективы в практику наследования. Ничего подобного! В своем завещании он вновь нагородил уделы, наделив ими своих пятерых сыновей. Каждый из князей выступал как полновластный, независимый владелец. Московское государство для Василия II, как и прежде, представлялось совокупностью полунезависимых уделов, своеобразной феодальной федерацией, где великий князь был «старшим среди младших». Тем самым вновь сеялись семена будущих феодальных смут.
Иван III ликвидировал эту порочную практику престолонаследия. В своем завещании он не просто передал трон старшему сыну Василию, а подчинил ему братьев, подобно простым служебным князьям. Да и сам Иван III требовал от своих братьев подчинения себе, как от поданных. Таким образом, царство при Иване III получило все необходимые черты действительно единого государства. Это было сделано синхронно с победой абсолютизма в Западной Европе. Примерно в это же время заканчивается война Алой и Белой Розы в Англии с утверждением династии Тюдоров, взявших курс на централизацию государственной власти. Во Франции Людовик ХI объединяет страну, победив феодальную вольницу. То был редкий случай, когда России не пришлось никого догонять. Она в новациях, требуемой эпохой, шла в первых рядах.
Очередное фундаментальное преобразование Ивана III было связано с реформой поземельных отношений. При нем появился новый вид феодального землевладения – поместье. Поместье представляло собой пожалованный воину от имени великого князя (затем царя), а фактически государством, участок земли с крестьянами за обязанность служить царю и государству пожизненно. Поместье являлось собственностью государства и могло изыматься назад. Так возникло сословие помещиков или дворян (от слова «двор»), лично зависимых от государства. Этим оно принципиально отличалось от бояр и князей, чья земля – вотчина – всецело принадлежала их владельцам, давая феодалам экономическую, а с ней и политическую основу независимости от великого князя. Бояре и князья набирали свои воинские отряды – ополчения – с вотчин, имея, таким образом, реальную военную силу, которая неоднократно использовалась в феодальных смутах. Поместье же было слишком мало, чтобы дворянин мог сформировать серьезный военный отряд, поэтому он не представлял угрозы для верховной власти. Кардинальный отход от удельно-вотчинной системы к поместной делал централизацию государства материально обеспеченной.
Еще один принципиальный шаг: Иван III развернул политику от союза с Востоком к политике заинтересованного внимания к Европе. При нем произошло событие, вряд ли возможное при князьях с политическими и идеологическими взглядами, как у Александра Невского и Калиты. Иван Васильевич женился на племяннице византийского императора Зое (Софье) Палеолог. Изюминка брака была в том, что инициатива исходила от врага православной церкви – Ватикана, что нисколько не смутило Иван III, хотя явно противоречило традиции подчеркнуто антизападной позиции «ордынской» Руси. В 1469 году в Москву из Рима прибыл папский посол с проектом брака недавно овдовевшего великого князя с византийской принцессой. Она, как и другие дети брата последнего императора, погибшего в ходе штурма турками Константинополя в 1453 г., находились на попечении Ватикана.