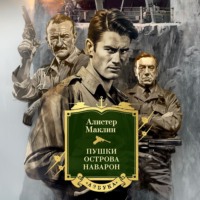Полная версия
Кукла на цепочке
Я двинулся было ко входу в магазин, как вдруг увидел нечто, заставившее меня остановиться на полушаге – и замереть, глядя так же пристально, как и Мэгги, хотя не в ту же сторону.
По улице шли Труди и Герта. Труди, облаченная в розовое платье без рукавов и длинные белые хлопчатобумажные перчатки, приплясывала в своей ребяческой манере; светлые локоны взметывались, на лице играла улыбка. Герта в неизменном традиционно-экстравагантном наряде тяжело ковыляла рядом, держа в руке большую кожаную сумку.
Нет, я не стоял столбом. Я быстро вошел в магазин, но направился не к Мэгги, – что бы ни происходило, эта парочка не должна стать свидетельницами нашего разговора. Заняв стратегическую позицию за высокой вертушкой с открытками, я решил дождаться, когда Герта и Труди пройдут мимо.
Этого не случилось. Они даже миновали вход в магазин, но тут Труди вдруг остановилась, заглянула в витрину и схватила Герту за руку. Через несколько секунд она затащила свою явно того не желавшую спутницу в помещение, оставила ее у входа мрачно возвышаться, как готовый извергнуться вулкан, подбежала к Мэгги и схватила ее за руку.
– А я тебя знаю! – радостно воскликнула Труди. – Я тебя знаю!
Мэгги повернулась и с улыбкой сказала:
– И я тебя знаю. Здравствуй, Труди.
– А это Герта. – Труди повернулась к Герте, которой откровенно не нравилось происходящее. – Герта, это Мэгги, моя подруга.
Герта поприветствовала «подругу» угрюмым оскалом.
– Майор Шерман тоже мой друг, – сказала Труди.
– Мне это известно, – улыбнулась Мэгги.
– Мэгги, мы же с тобой подруги?
– Конечно, Труди.
Девушка пришла в восторг.
– У меня тут много подруг. Хочешь, покажу их?
Труди увлекла Мэгги к двери и вытянула руку. Я знал, что указывать она может только на крестьянок в конце луга.
– Вон они! Видишь?
– Не сомневаюсь, что это очень милые подруги, – вежливо произнесла Мэгги.
Какой-то охотник за открытками подступил ко мне бочком, давая понять, что я мешаю его промыслу. Уж не знаю, что отразилось на моем лице, но ему этого хватило, чтобы поспешно удалиться.
– Они замечательные! – Труди повернулась к спутнице и указала на сумку. – Мы с Гертой, когда приезжаем сюда, обязательно угощаем их кофе с бутербродами. Пойдем, Мэгги, поговорим с ними. – Видя, что Мэгги колеблется, она обеспокоенно спросила: – Ты же мне подруга, да?
– Конечно, но…
– Они такие милые, – упрашивала ее Труди. – Такие веселые. И обожают музыку. Если будем хорошо себя вести, они для нас исполнят сенной танец.
– Сенной танец?
– Да, сенной танец. Мэгги, ну пожалуйста! Вы все – мои подруги. Пойдем! Ради меня, Мэгги!
– Ну ладно, ладно, – рассмеялась Мэгги. – Только ради тебя, Труди. Но ненадолго, хорошо?
– Мэгги, я тебя люблю! – Труди сжала ей руку. – Я тебя люблю!
Выждав некоторое время, я осторожно вышел из магазина. Они находились уже в пятидесяти ярдах от меня, миновали строение, за которым я поручил Мэгги наблюдать, и вступили на луг. До крестьянок было еще не меньше шестисот ярдов, они складывали первый сегодняшний стог вплотную к постройке, в которой даже с такого расстояния угадывался весьма старый и ветхий голландский амбар. Я слышал голоса – главным образом болтовню Труди, резвящейся, как ягненок из весеннего приплода. Труди не могла просто ходить, ей надо было скакать и приплясывать.
Я двигался следом, но не бегом, ярдах в тридцати-сорока. Поле окаймляла живая изгородь, и я благоразумно пользовался ею как прикрытием. Уверен, что выбранная мной манера передвижения своеобразием почти не уступала манере Труди, потому что изгородь не превышала пяти футов. Большую часть шестисотярдового пути я прошагал, согнувшись в поясе, точно семидесятилетний ревматик.
Наконец троица добралась до амбара и уселась возле его западной стены, укрывшись в тени от уверенно крепчающего зноя. Я позаботился о том, чтобы амбар загораживал меня и от нее, и от крестьянок. Пробежал оставшееся расстояние и проник в амбар через боковую дверь.
Постройка и впрямь оказалась совсем дряхлой, я бы дал ей не меньше ста лет. Половицы провисли, стены покоробились везде, где только можно, а горизонтальные щели между досками, предназначавшиеся для вентиляции, местами расширились настолько, что можно было просунуть голову.
У амбара был чердак, чей пол – трухлявый, проеденный древоточцами – держался на честном слове. Даже ушлый английский агент по торговле недвижимостью замучился бы продавать эту хибару, как бы ни упирал на старину. Я сомневался, что этот пол выдержит вес средней величины мыши, не говоря уже о моем весе, но нижняя часть амбара была малопригодна для наблюдения, да и не хотелось, выглянув через щель в стене, увидеть кого-нибудь, глядящего в противоположном направлении с расстояния в пару футов. Поэтому я набрался смелости и поднялся по хлипким деревянным ступенькам.
Чердак, на восточной стороне которого остались залежи прошлогоднего сена, и впрямь оказался опасен, но я тщательно выбирал, куда ступить, и мало-помалу добрался до западной стены.
Здесь тоже хватало удобных щелей между досками, и я выбрал лучшую, шириной не менее шести дюймов, дающую превосходный обзор. Прямо подо мной виднелись головы Мэгги, Труди и Герты. Чуть подальше матроны, которых было с десяток, усердно и сноровисто складывали стог; длинные зубья сенных вил поблескивали на солнце. Даже часть деревни, включая больше половины парковки, была видна как на ладони.
Меня одолевала тревога, но я не мог понять ее причину. Сцена с крестьянками, складывающими стог, выглядела идиллически – ну прямо мечта любителя буколики. Разум отказывался верить, что источником тревоги являются именно крестьянки, но даже здесь, в их родной стихии, развевающиеся полосатые юбки, вычурно расшитые корсеты и белоснежные чепцы выглядели не совсем уместно. От них ощутимо веяло театральностью, неестественностью. Неужели я зритель на спектакле, разыгрываемом специально для меня?
Так прошло около получаса, и все это время матроны трудились, а сидящие подо мной девушки болтали о пустяках. Когда день так полон нежной истомы, когда его тишину нарушают только шорканье вил и отдаленное гудение пчел, зачем еще какие-то разговоры? Подмывало закурить, и я наконец осмелился: нашарил в кармане пиджака сигареты и спички, затем уложил пиджак на пол, поверх него – пистолет с глушителем и зажег сигарету, позаботившись о том, чтобы дым не сочился через щели в стене.
Вдруг Герта глянула на наручные часы размером с кухонный будильник и что-то сказала Труди. Та встала, протянула руку к Мэгги и помогла ей подняться. Вместе они направились к крестьянкам – видимо, чтобы позвать их к завтраку; Герта уже расстилала на земле клетчатую скатерть, расставляла чашки и разворачивала матерчатые салфетки, в которых хранилась снедь.
– Не тянись к оружию. Все равно не успеешь – просто не доживешь.
Я поверил тому, кто произнес это за моей спиной. Я не попытался схватить пистолет.
– Медленно повернись.
Я медленно повернулся.
– Отойди от пистолета на три шага. Влево.
Я никого не видел. Но слышал прекрасно.
Я отошел на три шага влево.
На другом краю чердака зашевелилось сено, и появились двое: преподобный Таддеус Гудбоди и Марсель, змееподобный франт, которого я избил и запихнул в сейф. У Гудбоди не было оружия, но в нем и не имелось нужды: пистолет в руке у Марселя был величиной с два обычных, и, судя по блеску плоских, черных, немигающих глаз, этот тип обрадовался бы малейшему поводу пустить его в ход. Не внушало надежды и то обстоятельство, что на стволе отсутствовал глушитель. Этих двоих нисколько не беспокоит, что стрельба может кого-нибудь привлечь.
– До чего же там жарко, – пожаловался Гудбоди. – И чертовски щекотно. – Он улыбнулся – дяденьку с такой доброй улыбкой ребенок захочет взять за руку. – Ваша профессия приводит вас в самые неожиданные места, мой дорогой Шерман.
– Моя профессия?
– Если мне не изменяет память, в прошлую нашу встречу вы себя выдавали за таксиста.
– А-а… Ну да, было дело. Держу пари, что вы не заявили на меня в полицию.
– Да, я передумал, – великодушно подтвердил Гудбоди. Он подошел к моему пистолету, с отвращением поднял его и зашвырнул в сено. – Грубое, неприятное оружие.
– Ваша правда, – согласился я. – Вы-то всегда стараетесь привнести в убийство элемент изысканности.
– Что и будет сейчас продемонстрировано. – Гудбоди не потрудился понизить голос, да это было и ни к чему: гейлерские матроны уже пили утренний кофе, и даже с набитым ртом все они, похоже, умели говорить одновременно.
Гудбоди вернулся к сену, откопал холщовый мешок и извлек из него веревку.
– Будь бдителен, дружище Марсель. Если мистер Шерман сделает хоть малейшее движение, каким бы безобидным оно ни казалось, выстрели в него. Только не убей. Всади пулю в бедро.
Марсель плотоядно облизал губы. Я надеялся, что он не сочтет подозрительными движения моей рубашки, вызванные усиленным сердцебиением.
Гудбоди осторожно подошел ко мне сзади, туго стянул петлей правое запястье, перекинул веревку через стропило и после отладки, которая мне показалась неоправданно долгой, привязал другой конец к запястью левому. Мои кисти оказались на уровне ушей. Гудбоди достал второй кусок веревки.
– От моего друга Марселя я узнал, – заговорил он, – что вы довольно ловко деретесь руками. Мне пришло в голову, что и ноги могут быть натренированы не хуже. – Он опустился на корточки и связал мои лодыжки с энтузиазмом, не сулившим ничего хорошего кровообращению. – А еще мне пришло в голову, что вы способны комментировать сцену, которая вскоре разыграется перед вашими глазами. Но мы в комментариях не нуждаемся. – Он затолкал мне в рот далеко не чистый носовой платок и закрепил его другим, стянув узел на затылке. – Что скажете, Марсель? Приемлемо?
У Марселя сверкнули глаза.
– Я должен передать Шерману послание от мистера Даррелла.
– Нет-нет, дружище, не будем спешить. С этим успеется, а сейчас нужно, чтобы наш приятель полностью владел своими способностями. Чтобы не ослабло зрение, не пострадал слух, не притупился ум. Мистер Шерман должен оценить все тонкости представления, которое мы подготовили для него.
– Как скажете, мистер Гудбоди, – покорно ответил Марсель и снова принялся гнусно облизываться. – Зато потом…
– Зато потом, – щедро пообещал Гудбоди, – вы сможете передать столько посланий, сколько душа пожелает. Однако не забывайте: сегодня вечером, когда загорится амбар, мистер Шерман еще должен быть жив. Как жаль, что мы не сможем полюбоваться этим зрелищем с близкого расстояния. – Его огорчение казалось совершенно искренним. – Уверен, когда среди золы отыщут обугленные тела – ваше, мистер Шерман, и очаровательной юной леди, – победит версия о беспечности любви. Курение на сеновале, знаете ли, не самое разумное занятие. Au revoir, мистер Шерман, – но это не значит «прощайте». Посмотреть на сенной танец я предпочитаю из партера. Такой милый старинный обычай. Думаю, тут вы со мной согласитесь.
Он ушел, оставив Марселя облизываться. Мне не очень нравился этот тет-а-тет, но в тот момент это не имело никакого значения. Я повернулся к щели в стене.
Допившие кофе матроны уже поднимались на ноги. Труди и Мэгги находились почти под тем местом, где стоял я.
– Мэгги, разве пирожки невкусные? – спросила Труди. – А кофе?
– Очень вкусные, Труди, очень. Но я слишком задержалась. Пойду – мне еще нужно кое-что купить… – Мэгги осеклась и подняла глаза. – Что это?
Заиграли два аккордеона – мягкую, нежную мелодию. Я не видел музыкантов; звуки доносились из-за стога, с которым только что управились матроны. Труди вскочила на ноги, радостно захлопала в ладоши. А затем схватила Мэгги за руку и заставила подняться.
– Сенной танец! Сенной танец! – восклицала Труди, радуясь, как ребенок подарку в день рождения. – Это для нас! Мэгги, наверное, ты им тоже понравилась. Они будут танцевать для тебя. Теперь они и твои подруги!
Матроны – кто средних лет, а кто и старше, – все с пугающим отсутствием эмоций на лице, дружно задвигались с какой-то тягучей точностью. Положив вилы на плечо, как солдат – винтовку, они выстроились в шеренгу и принялись маршировать вперед-назад, тяжело переваливаясь с ноги на ногу; украшенные лентами косы раскачивались под музыку, звучавшую все громче. Женщины синхронно проделали грациозный пируэт, затем возобновили ритмичное вышагивание. Шеренга постепенно изгибалась, приобретая форму полукольца.
– В жизни не видала подобных танцев, – недоумевающе произнесла Мэгги.
Я тоже никогда не видел подобных танцев и с леденящей душу уверенностью сознавал, что не захочу увидеть снова. Впрочем, сложившиеся обстоятельства, похоже, начисто исключали такую возможность.
Труди повторила мою мысль, но зловещий подтекст ускользнул от Мэгги.
– И больше никогда не увидишь, – сказала она. – Это только начало. Ой, Мэгги, ты им точно понравилась! Смотри, они тебя зовут!
– Меня?
– Да, Мэгги. Ты им нравишься. Иногда они зовут меня, а сегодня – тебя.
– Труди, мне нужно идти.
– Мэгги, ну пожалуйста! На минуточку. Тебе ничего не нужно делать, только постоять перед ними. Они очень расстроятся, если ты откажешься.
Мэгги со смехом уступила:
– Ладно, ладно.
Спустя несколько секунд она, крайне смущенная, оказалась в центре внимания. Полукруг танцовщиц с вилами то приближался, то удалялся от нее. Постепенно менялись рисунок и темп танца – матроны двигались все быстрее, и вот они замкнули вокруг Мэгги кольцо. Оно сужалось и расширялось, сужалось и расширялось; женщины то кланялись с суровым видом, приближаясь к Мэгги, то резко запрокидывали головы и взметывали косы, отдаляясь.
В поле моего зрения появился Гудбоди с умильно-нежной улыбкой человека, косвенно участвующего в завораживающем старинном танце. Он стал рядом с Труди и положил руку ей на плечо; она одарила его сияющим взглядом.
На меня накатила тошнота. Хотелось отвести взгляд, но сделать это – значит бросить Мэгги в беде, а я никогда не бросил бы Мэгги в беде. Хотя Бог свидетель, я был не в силах ей помочь. На ее лице отразились растерянность, недоумение и даже некоторое беспокойство. Она посмотрела на Труди через промежуток между двумя матронами; девушка широко улыбнулась и ободряюще помахала ладошкой.
Музыка вдруг изменилась. Раньше это была нежная танцевальная мелодия, хоть и с вкраплениями маршевых аккордов, а теперь аккордеоны играли все громче, исторгая нечто новое, даже не военное уже, а нечто грубое, примитивное, дикое. Жестокое.
Вновь замкнувшись, кольцо начало сужаться. Со своего возвышения я по-прежнему видел Мэгги. У нее расширились глаза, на лице читался страх. Склонившись вбок, она чуть ли не в отчаянии высматривала Труди.
Но та не пришла бы ей на выручку. Улыбка исчезла, кисти, обтянутые хлопчатобумажной тканью, сжались в тугие кулаки. А еще Труди медленно, плотоядно облизывалась. Я повернул голову: Марсель был занят тем же, но по-прежнему держал меня на мушке и наблюдал за мной так же внимательно, как и за сценой снаружи. Я был бессилен что-либо предпринять.
Матроны топали, снова сужая круг. С круглых как блин лиц сошла бесстрастность, уступив свирепости, беспощадности, а крепнущий страх в глазах Мэгги сменился ужасом. Музыка же все набирала силу, все теряла стройность. И вдруг с парадной синхронностью вилы взметнулись с плеч и направились на Мэгги.
Она кричала снова и снова, но дикое крещендо, уже почти безумная какофония глушила ее голос. А потом Мэгги упала, и, на мое счастье, я мог теперь видеть только спины матрон и вилы, которые высоко вскидывались и опускались, вскидывались и опускались… Но даже на это смотреть было невыносимо. Я перевел взгляд – а тут Труди в экстазе сжимает кулаки и растопыривает пальцы; очаровательное личико превратилась в мерзкую звериную морду; а рядом преподобный Гудбоди, и всегдашнее благолепие на его лице ничуть не вяжется с блеском глаз, пожирающих чудовищную сцену. Злобные души, больные души, давно перешагнувшие границу, за которой лежит безумие.
Я заставил себя вновь посмотреть в ту сторону, когда музыка постепенно притихла, утратив свою атавистическую, пещерную лютость. Матроны завершили танец, прекратились смертоносны удары. Одна женщина развернулась и подцепила на вилы сено. Я успел мельком увидеть на скошенном лугу скорчившееся тело в белой… нет, уже совсем не белой блузке, а затем оно скрылось под сеном.
Сверху лег новый пласт сухой травы, и еще, и еще, а два аккордеона теперь негромко, с ностальгической нежностью повествовали о старинной Вене. Крестьянки соорудили над Мэгги стог. Доктор Гудбоди и Труди, улыбаясь и весело болтая, пошли рука об руку в деревню.
Марсель отвернулся от щели в стене и вздохнул:
– А здорово доктор Гудбоди устраивает такие штуки, не находишь? Талант, вкус, чуткость, время, место, атмосфера – просто идеальное сочетание.
Безупречный оксбриджский акцент этой ходячей змеи был не менее гнусен, чем контекст, в который легли ее слова. Этот негодяй был конченым психопатом, как и все остальные.
Он осторожно подошел ко мне сзади, развязал узел носового платка на затылке и вынул изо рта скомканную мокрую тряпку. У меня не было оснований считать, что им движут какие-то соображения гуманности.
– Хочу слышать, как ты будешь орать, – произнес он небрежно. – А дамы внизу вряд ли обратят внимание.
Я был уверен, что не обратят.
– Удивляюсь, как это доктор Гудбоди дал увести себя отсюда. – Мой собственный голос звучал незнакомо, я таким тоном еще ни разу не пользовался. Хриплый, низкий; и слова выходят трудно, будто горло повреждено.
Марсель с улыбкой объяснил:
– У доктора Гудбоди срочное и важное дело в Амстердаме.
– Важный груз, который нужно срочно переправить отсюда в Амстердам.
– В точку. – Он снова улыбнулся, и я будто видел, как расправляется змеиный капюшон. – Мой дорогой Шерман, классический канон требует, чтобы человеку в твоем положении – проигравшему, стоящему на пороге смерти – человек в моем положении объяснил во всех подробностях, какие были допущены ошибки. Но помимо того, что список твоих промахов чересчур велик и перечислять их было бы утомительно, есть и другое обстоятельство: плевать я хотел на канон. Так что давай приступим, хорошо?
– К чему приступим?
Ну вот, подумал я, начинается. Но подумал довольно равнодушно: происходящее меня больше не трогало.
– Конечно же, к передаче и приему послания от мистера Даррелла.
Будто мясницкий тесак врезался в голову сбоку – это Марсель саданул стволом пистолета. Я предположил, что сломана левая скула, а язык подсказал, что минимум два зуба уж точно не удержатся.
– Мистер Даррелл, – весело проговорил Марсель, – просил сказать, что ему не нравится, когда его лупят пистолетом.
Я видел, что он готовится врезать справа, и попытался откинуть голову, но уклониться не сумел. Этот удар, хоть и вышел послабее, вызвал временную потерю зрения, последовавшую за яркой белой вспышкой, как будто что-то взорвалось прямо перед глазами. Лицо горело, голова раскалывалась, но странное дело – разум был ясен. Подумалось: если пытка продлится еще немного, то даже пластический хирург сокрушенно разведет руками. Но на самом деле важно было другое: если пытка продлится еще немного, то я вырублюсь, возможно, на несколько часов.
Единственное, что можно предпринять, это попытку сбить палача с ритма. Сделать избиение бессистемным.
Я выплюнул зуб и сказал:
– Педик.
Почему-то его проняло. Лоск цивилизованности, светскости оказался не толще луковой шелухи, да и тот не отслоился, а просто сгинул в один миг, и остался только одержимый дикарь, нападавший на меня с лютой, жгучей, безумной яростью.
Удары сыпались со всех сторон на голову и плечи. Марсель бил пистолетом и кулаком, а когда я попытался защищаться предплечьями, он переключился с головы на корпус. Я застонал и закатил глаза; ноги стали ватными, и я бы повалился, будь у меня такая возможность. А поскольку ее не было, пришлось повиснуть на веревке.
Миновали еще две-три мучительные секунды, прежде чем Марсель чуток опомнился и понял, что зря теряет время. Какой смысл подвергать человека истязаниям, которых тот не чувствует? Из горла исторгся странный звук, вероятно свидетельствовавший о разочаровании, а потом Марсель просто стоял, тяжело дыша.
Я не мог понять, что он намерен делать дальше, так как не осмеливался открыть глаза.
Услышав, что он слегка отстранился, я рискнул быстро посмотреть краем глаза. Приступ бешенства закончился, и Марсель – очевидно, не только до садистских удовольствий алчный, но и до поживы – поднял мой пиджак и стал рыться в карманах. Напрасный труд, ведь бумажник, хранящийся в нагрудном кармане, имеет свойство выпадать, когда пиджак перекидывают через руку, поэтому я предусмотрительно переложил бумажник с деньгами, паспортом и водительскими правами в брючной карман.
Марселю не понадобилось много времени, чтобы сообразить. Я услышал его шаги и почувствовал, как из кармана извлекают бумажник.
Теперь Марсель стоял рядом со мной – я знал об этом, хоть и не мог его видеть. Застонав, я беспомощно покачнулся на веревках, которыми был подвешен к стропилам. При этом ноги были вытянуты, мыски туфель упирались в пол. Я приоткрыл глаза, совсем чуть-чуть.
Не далее чем в ярде виднелись ноги Марселя. Я на какую-то долю секунды поднял взгляд. С радостным удивлением на лице Марсель перекладывал в свой карман весьма значительную сумму. Бумажник он держал в левой руке, а пистолет болтался на скрюченном пальце той же руки, просунутом в спусковую скобу.
Марсель так увлекся мародерством, что не заметил, как мои руки потянулись вверх, чтобы получше ухватиться за веревки.
Со всей ненавистью, яростью и болью, накопившейся во мне, я рванул свое тело вперед и вверх. Вряд ли Марсель успел заметить приближение моих ног. Он не издал ни звука, лишь дернулся вперед так же судорожно, как только что я, навалился на меня и медленно сполз на пол. Он лежал, и голова перекатывалась из стороны в сторону. Что это, безотчетный двигательный рефлекс или единственная реакция, доступная человеку, парализованному болевым шоком? Я не собирался гадать. Как и рисковать: выпрямившись и отступив назад, насколько позволяли путы, я снова прыгнул на Марселя.
Даже удивительно, что его голова после этого осталась на плечах. Подлый приемчик, спору нет, но ведь я имел дело с подлыми людьми.
Пистолет так и остался на среднем пальце левой руки. Я столкнул его мыском туфли. Затем попытался зажать между туфель, но он все выскальзывал – очень уж мал коэффициент трения для металла и кожи. Тогда я снял обувь, уперев каблуки в пол, а после, провозившись куда дольше, тем же методом освободился и от носков. При этом изрядно оцарапался и насажал заноз, но боли в ногах практически не ощущал – ее эффективно заглушала боль в лице.
Босые ступни отлично удерживали пистолет. Крепко сжимая его, я соединил концы веревки, полез по ней и добрался до стропила. Теперь у меня было четыре фута свободной веревки – более чем достаточно. Я повис на левой руке, правую вытянул вниз, а ноги согнул в коленях.
И вот пистолет в моей ладони.
Я вернулся на пол, туго натянул веревку, привязанную к левому запястью, и приставил к ней ствол. Чтобы ее перебить, хватило одной пули – никакой нож не справился бы так быстро. Я развязал на себе все узлы, сорвал с груди Марселя кусок белоснежной рубашки, стер им кровь с лица, забрал бумажник и деньги и ушел. Я не знал, жив Марсель или нет. Он выглядел совершенно мертвым, но я не стал проверять – меньше всего в тот момент меня интересовало состояние его здоровья.
Глава 12
Было уже за полдень, когда я вернулся в Амстердам, и солнце, в то утро видевшее гибель Мэгги, пристыженно скрылось. Со стороны Зёйдерзе наползала тяжелая туча.
Я мог бы добраться до города на час раньше, но врач в поликлиническом отделении пригородной больницы, куда я наведался, чтобы подправить лицо, задавал слишком много вопросов, и ему не нравился один и тот же ответ, что мне требуется только пластырь, правда в большом количестве, а швы и бинты могут подождать. Должно быть, с кусками пластыря, многочисленными синяками и заплывшим левым глазом я смахивал на единственного выжившего в крушении экспресса, но уж точно не выглядел чудовищем, при встрече с которым дети заходятся криком и зовут мамочку.
Я оставил полицейское такси недалеко от пункта проката, где взял маленький черный «опель». Владелец долго упирался, поскольку мое лицо давало повод усомниться в достаточном водительском стаже, но в конце концов уступил.
Когда я садился за руль, уже падали первые капли дождя. Я остановился у полицейской машины, забрал сумочку Астрид и две пары наручников – талисманы на удачу – и поехал дальше. Запарковался на уже довольно знакомой улочке и пошел к каналу. Высунул голову из-за угла и поспешил вернуть ее обратно. После чего выглянул лишь одним глазом.