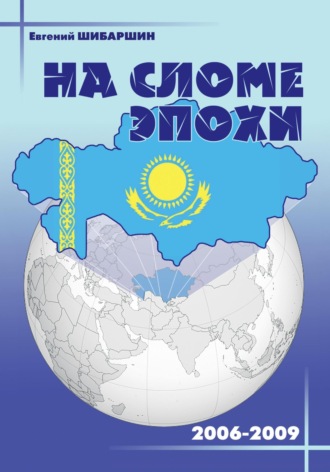
Полная версия
На сломе эпохи (2006-2009 годы)
Когда в стране появятся 5-6 точек реальной власти, тогда не нужно будет судорожно бояться за персональные перемены и сводить в итоге всё к тому, что один человек должен сидеть на этом месте до тех пор, пока ему там сидится. Проблема Казахстана не в том, что Назарбаев долго сидит в президентском кресле, а в том, что в нашей стране есть только одно место, которое располагает реальной властью.
– В своём комментарии к идее создания в Казахстане конституционной монархии, с которой выступил Рахат Алиев, вы не возражали против такой перспективы. Правда, при условии введения в нашей стране реального парламентаризма. Вы действительно всерьёз рассматриваете такую возможность?
– Если говорить о содержательной стороне нашумевшей статьи, то всерьёз обсуждать аргументы, высказанные Рахатом Мухтаровичем, нет смысла. Но очень серьёзно нужно отнестись к тому факту, что подобная идея исходит от старшего зятя президента, первого вице-министра иностранных дел, представителя Казахстана в ОБСЕ. Об этом давайте поговорим. Тут есть проблема. Она состоит в том, что власть, созданная таким единоличным образом, как это произошло в нашей стране, очень уязвима с точки зрения замены. На самом деле: что случится с тем же Рахатом Алиевым, если, допустим, к власти придет другой человек и вдруг вспомнит о том, как г-н Алиев, создавая свой бизнес, «нечаянно» ему навредил? Куда денется Рахат Алиев? К тому же у него есть дети, целый клан, которые ночи не спят, думая: а что же будет после Папы? Можно было бы поехидничать по этому поводу, но надо понимать, что это серьёзный тормоз для политического процесса в Казахстане.
– И чтобы эти люди не мешали развитию демократии в нашей стране, вы предлагаете обезопасить их будущее приданием этой семье ханского статуса?
– По поводу формы можно говорить о разных вариантах, в том числе и фантастических. Я лишь хотел подчеркнуть наличие серьёзной проблемы, которая сегодня мешает главе государства проводить политические преобразования. Суть сегодняшней политической ситуации в том, что президент не может оставить свой пост – даже не ради себя самого, а ради окружения. И окружение, в свою очередь, никак не может допустить, чтобы президент уходил – отнюдь не ради него, а ради себя самих. Тут замкнутый круг. Они друг за друга держатся и только изображают некие подвижки в сторону изменения системы власти, не проводя их на самом деле. Нужно сделать таким образом, чтобы теперешний президент Казахстана не «напрягался» по поводу того, что, проводя реальную реформу политической системы, он может пострадать сам. Подвинуть президента к преобразованиям можно лишь предоставив ему возможность занимать этот пост пожизненно (или до того момента, когда он сам уйдёт в отставку). Но при условии, что он в корне реформирует власть. Что же касается его близкого окружения, то пусть за президентом останется право назначать депутатов Сената. Правда, чтобы они не повлияли на политическую ситуацию в стране, ограничить эту возможность формированием Мажилиса на сто процентов по партийным спискам. Я думаю, это не очень высокая плата за то, чтобы кто-то, цепляясь за власть руками и ногами, не мешал реформированию общества.
«Наша газета», 28.09.2006
Чиновничьи манипуляции
29 сентября министр юстиции Загипа Балиева внесла на рассмотрение Парламента законопроект об отмене поправки в Закон “О выборах”, которая запрещала проведение митингов с момента окончания голосования на выборах и до опубликования итогов.
– Мы видели, как в других государствах бушуют “цветные” революции, как на мнение членов комиссии влияют митинги, и для того чтобы сберечь нашу государственность, было внесено такое предложение. Но последние выборы показали, что наш народ достоин того, чтобы эту норму убрать, – так г-жа Балиева объясняла депутатам причины правительственных зигзагов в законотворчестве.
Правда, когда народные избранники начали выяснять – кто вводил в заблуждение главу государства о якобы надвигающейся на Казахстан революции и кому в нашей стране предоставлено почётное право определять, чего народ достоин, а чего нет – министр юстиции привела ещё один аргумент, подтолкнувший к смягчению митингового режима. Дескать, это один из пунктов, по которым нас критикует ОБСЕ. Ну, и поскольку мы в ближайшее время собираемся немного “порулить” в этой почтенной международной организации, к её увещеваниям нужно прислушиваться. Так что о прозрении некоторых высокопоставленных чиновников по поводу достоинств народа говорить не приходится. Особенно, когда узнаёшь, что в августе правительство передало в Мажилис ещё один любопытный документ – проект закона с изменениями и дополнениями в некоторые законодательные акты РК по вопросам обеспечения общественной безопасности. В нём предполагается для поддержания порядка во время публичных мероприятий разрешить полиции при необходимости использовать служебных животных, бронемашины и другие специальные средства.
Вроде бы в Казахстане после выхода из экономического кризиса жить становится легче, и у власти оснований для тревог по поводу возможных народных волнений должно быть меньше, однако карательные органы готовятся к худшему сценарию выстраивания нашего ближайшего будущего. Почему? Очевидно, люди во власти понимают, что страна подходит к той неминуемой черте, когда реально встанет вопрос о смене управленческой элиты. Удержаться на плаву с помощью манипуляций голосами избирателей теперешним управленцам вряд ли удастся. Вести открытую, честную политическую борьбу они не могут. Останется одно – удерживать ситуацию в контролируемом состоянии силовым способом.
К слову сказать, данный метод в Казахстане давно уже используется против немногочисленных сил оппозиции, но она пока не обращалась за поддержкой к широким слоям населения. Теперь наступает время, когда без опоры на массы у оппозиции теряется всякий смысл “играть” в политику. Однако найти отклик в душах избирателей без собственных ярких поступков, без уличения в нечистоплотности своих противников, без выведения людей на улицы сегодня практически невозможно. А тут получилось так, что постоянными запретами на проведение митингов, шествий и пикетов у казахстанцев отобрали возможность выработать культуру поведения на подобных мероприятиях. В таких условиях людей легче провоцировать на экстремистские действия, что и могут сделать сами же власти. Чтобы для “умиротворения толпы” по полной программе применить спецсредства, а во всех негативных последствиях обвинить оппозицию. После принятия упомянутого закона всё будет сделано в рамках “правового поля”, остается только поманипулировать сознанием обывателей.
В этом плане теперешнюю власть учить не надо. Чего только стоит умело запущенная кампания по поводу неимоверно высоких доходов некоторых чиновников. Приведённые в прессе цифры их зарплат оказались настолько впечатляющими, что народ как-то и забыл, что глава государства в это время находится с очень важным визитом в США, и что оппозиция прогнозировали ему там “взбучку” от тамошнего президента по поводу состояния демократии в нашей стране. Мало кому пришло в голову задаться вопросом, почему г-н Назарбаев не поднял эту проблему раньше? Не знал о ней? Сомневаюсь. В итоге, между комментариями политологов и социологов о ходе боёв с чиновничьими зарплатами на ТВ мелькали лишь дежурные картинки мирных бесед главы Казахстана с разными официальными лицами США, в ходе которых обсуждались “общие усилия по борьбе с терроризмом, наркотрафиком и другие вопросы, представляющие взаимный интерес”. И как-то незаметно наш президент вернулся на родину, а в графике уже его встреча с лидером России в Уральске. Позже мы, конечно, узнаем подробности пребывания лидера Казахстана в США. Но это будет уже потом. На фоне его первых побед в борьбе за утверждение личной скромности в жизни госчиновников и новых инициатив в интеграционном процессе с Россией.
«Наша газета», 05.10.2006
Чьи вы – деньги?
Воистину мир полон контрастов. Торжественное открытие единственной на весь посёлок установки по очистке озерной воды проходит при областном Акиме, который сетует на нехватку денег для обеспечения этим оборудованием всех нуждающихся. В то же время миллионы тенге народных денег “размазывают” по фасаду здания областного акимата, делая ненужный ремонт. Который год не хватает средств на организацию специальных ночлежек для бомжей, а для праздничных фейерверков деньги находились всегда. Заоблачные доходы руководителей некоторых государственных компаний плохо сочетаются с низкими доходами их со- отечественников, хронически пребывающих в пределах черты бедности.
Вся эта гротесковая реальность выстраивается на деньги, которые мы в виде налогов передаем в общее пользование. Выходит, выбранные нами “засланцы” в маслихатах, сев в депутатские кресла, забыли, что правильно распорядиться деньгами из общей копилки – их главная обязанность? Или у них нет такой возможности? На эту тему “НГ” беседует с Оразом Жандосовым. Экономист по образованию, он в разные годы работал первым заместителем министра экономики, министром финансов, заместителем премьер-министра РК, возглавлял Национальный банк, Агентство по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, сейчас он сопредседатель Демократической партии Казахстана “Настоящий “Ак Жол”.
– Понятно, что у исполнительного органа власти должен быть внешний контроль со стороны общества, – начал отвечать на поставленные вопросы Ораз Жандосов. – Все бюджетные программы имеют своих администраторов, в качестве которых выступают департаменты, либо соответствующие отделы акиматов. Все программы имеют паспорта, где детал но прописаны основные объекты, на которые идут бюджетные деньги, и, по сути, все расходы можно проверить. Есть и орган общественного контроля – ревизионные комиссии, составленные из депутатов маслихатов. Но проблема в том, что полномочия этих комиссий не прописаны в достаточной степени. Как, например, у Счётной комиссии – такого же контролирующего органа на республиканском уровне.
Но сегодня, скорее, срабатывает другой фактор, мешающий в полной мере контролировать использование бюджетных средств. По сути, в маслихатах сейчас люди, собранные акимом, а не в результате свободного волеизъявления граждан. Там нет оппозиции, которая как раз и обеспечила бы полноценный контроль. Всё зависит от того, есть ли у кого-то п литический интерес в получении информации, насколько честно тратятся бюджетный деньги. Если никто не будет биться в эту “стенку”, ничего не будет. Страны, где всё это есть не только на бумаге, а в виде законов, детально прописанных процедур – это страны с развитой демократией. Там это подогревается и общественным интересом.
– В этих странах, наверное, руководитель исполнительного органа власти не приезжает на открытие отремонтированной школы или детского дома, чтобы подарить детям нечто, купленное на неизвестно чьи деньги. Или у акимов в бюджете предусмотрен какой-то фонд, из которого он и берёт деньги на подарки?
– У нас на эти цели деньги в бюджете не предусматриваются. Казахстанское правительство имеет резервный фонд на чрезвычайные случаи. Откуда акимы берут средства на подарки детям, не знаю, но наверняка не из бюджета. Скорее всего, это финансы предпринимателей. Тогда возникает вопрос, почему те сами этого не делают? Так было бы честнее.
Если руководитель местной власти их понуждает к выделению средств под прикрытием принципа “социальной ответственности” бизнеса, то это дело вообще на грани уголовного. Если деньги все-таки бюджетные, из какого-то резервного фонда акима, тогда есть ли правила их использования, чтобы не было злоупотреблений? Да и почему подарки, купленные на средства из бюджета, должны преподноситься от имени акима? Ведь это не его деньги. Опять возвращаемся к той же проблеме: если бы у нас была открытая политическая система, такие вещи прекратились бы. Ведь если бы факты принуждения предпринимателей акимом или директором департамента к выделению средств (даже на такие благородные цели, как помощь детям-сиротам) стало бы предметом гласности, эти должностные лица превратились бы в политические трупы.
– Вы говорили о значении политической конкуренции в контроле над законностью использования бюджетных средств. Но в конкурсах по госзакупкам между предпринимателями, подавшими заявки, вроде бы конкуренция есть. Тем не менее, сегодня в Казахстане эту сферу считают наиболее коррумпированной.
– Конкуренция между предпринимателями в данном случае состоит в том, что они ищут себе в органах власти лучшую “крышу”. Кто сидит в тендерных комиссиях? Чиновники среднего уровня управления. А у самого “верха” существуют различные группировки. От которой из них будет самый “мощный” звонок в комиссию, тот и выиграл. Даже если предприниматель знает, кто “наверху” поддерживал его конкурента, выигравшего тендер, в открытую с этим бороться он не хочет. Это “не по правилам”, это разрушит его прежние связи.
Но это не значит, что от тендерной системы нужно отказываться. Там, где власть построена на основе открытой политической конкуренции, где все процедуры максимально прозрачны, там и в сфере экономической конкуренции выиграть, нарушая закон, очень сложно.
– Куда может привести непрозрачность в работе, наглядно демонстрирует скандал, разгоревшийся по поводу высоких должностных окладов руководителей некоторых национальных компаний.
– Да, расходы на заработную плату руководителей государственных компаний – это такие же бюджетные расходы, и сведения о них должны быть доступны любому гражданину. Ведь известно, что практически все нацкомпании – либо “сырьевики”, либо естественные монополисты. То есть они работают вне конкуренции, им нет нужды быть по-настоящему высококлассными менеджерами. И если бы их работа была прозрачна, им бы не платили зарплату с шестью нулями.
(Продолжение следует)
«Наша газета», 05.10.2006
Ораз Жандосов: Без смены системы власти Казахстан не станет конкурентоспособным
В начале прошлого года в Послании народу Казахстана глава государства заявил, что к 2015-му году ВВП на душу населения может составить около $9000. Опираясь на этот прогноз, в марте этого года он поставил задачу войти к обозначенному сроку в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира. По темпам экономического развития международные рейтинговые организации ставят сейчас Казахстан на 51-е место, да и по объёму производства мы находимся на 61-ом, что, по мнению многих специалистов, делает поставленную задачу выполнимой. Но рейтинг определяется и по другим критериям, связанным с человеческим развитием. И тут у нас накопилось немало проблем. С чем они связаны? Своё мнение по этому поводу обозревателю «НГ» высказал сопредседатель Демократической партии «Настоящий «Ак Жол» Ораз Жандосов.
Развития нет
– Ораз Алиевич, увеличение производства Казахстана за счёт роста экспорта нефти – тенденция общеизвестная. Что меняется и меняется ли в других секторах экономики, чтобы наша республика реально претендовала на выход в число развитых стран?
– Больших сдвигов в сторону уменьшения зависимости от нефти нет. Поток нефтедолларов растёт, растёт и спрос внутри страны. Поэтому и предприятия, связанные с местными услугами, тоже развиваются. Я имею в виду пищевую промышленность, производство стройматериалов и некоторые другие отрасли. Их продукцию везти издалека дорого, поэтому они производят то, что в этом же районе и потребляется.
Если же говорить о развитии предприятий, продукция которых должна конкурировать на глобальном рынке, там развития не происходит.
За исключением финансового сектора, который занимается экспортом финансовых услуг путём открытия за рубежом своих филиалов и привлечения средств на открытые там счета. Но заслуги теперешнего правительства в этом нет. Процесс начался ещё с начала 1998 года, когда были проведены реформы в этом секторе.
Ключевой вопрос, на мой взгляд, в том, что реально инвестиционный климат в нашей стране не очень хороший. Эту проблему можно стараться не замечать, как это делают сегодняшние власти, но она объективно существует.
В инвестиционном климате можно выделить две составляющие: твёрдую и мягкую. Обе они важны и взаимодействуют между собой. К твёрдой я отношу компоненты, связанные с инфраструктурой. Это и удалённость Казахстана от всех рынков, и реально плохие географическо- климатические условия, и проблемы с наличием рабочей силы, и ухудшение ситуации с образованием. Мягкие компоненты – коррупция, зависимый суд, непрозрачность принимаемых правительством решений, их непоследовательность. Всё это является причиной отсутствия равной игровой площадки для всех потенциальных инвесторов.
О наших недостатках хорошо известно Всемирному банку и другим организациям, занимающимся инвестированием.
Где отечественный капитал?
– Вы говорите о зарубежных инвесторах. Но почему отечественный капитал уходит за границу?
– В целом, в мире и у нас, в частности, больших ограничений для движения капитала в обе стороны нет. Нет запрета на приток капитала из-за рубежа в те отрасли, о которых мы говорили. Нельзя ограничить и оставить в нашей стране тот капитал, который сегодня концентрируется у некоторых групп в Казахстане. Капитал мобилен.
– Глава государства постоянно призывает иностранных инвесторов к нам, в то же время деньги казахстанцев уходят за границу. Может, потому, что отечественных инвесторов не пускают в очень прибыльные, сырьевые отрасли, оставив их иностранцам?
– Знаете, а я бы не сказал, что сырьевой сектор такой уж прибыльный. Что касается инвестиций, которые вкладывались в сырьевую сферу, там все контракты заключались в большей степени в интересах инвесторов, нежели государства. То есть они прибыльны за счёт государства, за счёт того, что норма прибыли заложена выше, чем среднемировые показатели. Товар, который производят предприятия иностранных инвесторов, на
рынке востребован как сырье, как полуфабрикат, поэтому больших проблем со спросом нет. А ведь именно спрос на товар определяет поведение инвестора. Если есть спрос – деньги в компанию вкладывать выгодно.
Что касается использования отечественного капитала, то это вопрос многомерный. Он имеет несколько составляющих. Первая – у нас есть сырьевые компании, которые реально отечественные, хотя числятся иностранными (например, ССГПО в Рудном). Там гигантские прибыли, но, к сожалению, они не достаются бюджету, а остаются у владельцев этих компаний. Никто из них, по большому счёту, не инвестирует серьезные проекты обрабатывающей промышленности внутри страны. Почему они этого не делают, и почему их никто не заставляет – это вопрос.
Есть ещё в Казахстане компании среднего уровня, которые поднялись в других отраслях. Их почему-то в сырьевой сектор не пускают. Это тоже проблема. Она будет до тех пор, пока тендеры на новые месторождения не станут открытыми и честными.
Есть крупные отечественные компании, которые двигаются за рубеж. Они делают это сознательно, потому что инвестиционный климат в той же России лучше, чем в Казахстане.
Ещё один крайне важный вопрос – хватает или не хватает отечественного капитала для инвестиций внутри нашей страны? У нас большая доля ВВП – прибыли сырьевых компаний. Вопрос в том, как эти, допустим 15% прибыли, делятся между государством и компаниями? Идеальная модель – примерно 5% отдать компаниям, остальные 10% – в бюджет. На самом деле ситуация не такая. Но даже если поделить пополам, что делать государству? Отдать их населению, и тогда какая доля пойдет на сбережения людей, а какая будет истрачена ими на текущее потребление? Если не учитывать доходы сырьевого сектора, то норма сбережений населения у нас маленькая, она примерно в три раза ниже, чем в Китае. Поэтому найти ресурсы для инвестирования внутри страны у нас проблематично.
Доходы населения и инфляция
– Вы всегда выступали за существенное увеличение доходов населения, а ваши оппоненты отвечали, что такие шаги резко поднимут инфляцию, которая «съест» все добавки. Можно ли найти такую среднюю линию, чтобы доходы росли более быстрыми темпами, а цены, если и росли, то не так быстро?
– Тут два разных вопроса. Инфляция – это не только спрос, который может расти бешеными темпами и – что особенно важно – непредсказуемо. Чтобы была предсказуемость, в экономической политике государства должны быть нормальное прогнозирование и элементы планирования.
Если идёт уровень инфляции до 20% в год, то государственная политика должна стимулировать рост предложения. Потому что предложение должно успевать за спросом. Для этого нужно снять всякие барьеры на пути развития нового предложения. Это касается конкурентной политики в первую очередь. Что касается доходов… Здесь вопрос в том, какую часть и в какой форме нужно сберечь через вмешательство государства. Не отдавая на выбор населения, что им самим беречь, а что расходовать. Это очень сложно.
Стоит ли сейчас государству получаемую прибыль сберегать в денежной форме или, учитывая огромные потребности в развитии инфраструктуры страны, вкладывать их в эту сферу? Здесь наиболее сложный выбор. В политике роста предложения у государства активная и относительно лёгкая роль. Хотя в Казахстане сложившаяся система власти (с её вертикальным устройством и отсутствием внутренних обратных связей) является сейчас ступором. Что касается баланса между тем, какую долю и в какой форме должно накапливать государство, а что нужно отдать населению, это более интересно. Но в современной экономике эту задачу предстоит решать постоянно, при любом политическом устройстве.
Идеологический лозунг
– Средства, которые казахстанцы накапливают на банковских депозитах, заметно выросли. Расширяет ли это возможность инвестирования отечественной промышленности?
– Если вы посмотрите, сколько процентов эти сбережения составляют от всех доходов, то это величина маленькая. В Китае доходы на душу населения примерно в два раза меньше казахстанских, а сбережений в три раза больше. В целом, динамику движения нормы сбережений в Казахстане нельзя назвать положительной. Просто сегодня все это скрыто большим притоком денег в сырьевом секторе. Если убрать этот «слой», там картина не очень положительная.
– Можно ли считать скупку квартир формой сбережения? Ведь зачастую их покупают люди, уже имеющие жилье.
– Для малой части населения это действительно так. Я бы сюда отнес еще и покупку земли. Все это делается в расчёте на дальнейший рост цен. Иначе нет смысла. На каком-то узком сегменте рынка цены будут расти, не исходя из роста потребностей. И это может отражать общую тенденцию в остальной – большей части рынка. Но я уверен, если государство будет иметь правильный план по развитию этой части рынка, если конкурсы по продаже земли будут честными и прозрачными, то цены на жильё в элитных районах городов упадут. Тут и другой вопрос – крупные застройщики домов «срослись» с городскими акиматами, и эта ситуация их всех устраивает.
– Вы верите, что Казахстан к 2015-му году действительно сможет войти в число 50-ти конкурентоспособных стран мира?
– Для руководства страны эта цель, скорее, идеологический лозунг. Он звучит привлекательно, но в то же время тут не затрагиваются вопросы, на которые власть предпочитает не отвечать. Тут надо понимать конкретно – конкурентоспособными должны стать все сегменты экономики: от производства кирпича до самой сложной в технологическом отношении отрасли, а тем более и социальной сферы. Пусть по каким-то критериям мы будем на 40-ом месте, по каким-то – на 60-ом. Важны положительные сдвиги, они должны быть даже в самых отдалённых аулах.
Я твёрдо убеждён: в оставшиеся девять лет без смены режима власти – речь идёт не о смене людей, а именно об изменении системы власти – мы этого не добьёмся.
«Наша газета», 12 октября
Государство в поисках работы
Уровень безработицы в Казахстане хоть и снижается, но очень медленно. Для решения этой проблемы в Костанайской области принята региональная программа занятости населения на 2006-2008 годы. На её финансирование из местного бюджета предполагается выделить 557,6 млн. тенге. Достаточно ли этих средств, и насколько эффективно они используются?
Прилавок вместо кульмана
Раису Терещенко я встретил на Центральном рынке в Костанае. Она готовилась к своему очередному рабочему дню. На тележке привезли товар, сейчас она в очередной раз выложит его на прилавок и будет ждать своего покупателя. Уже который год подряд. А ведь когда-то окончила строительный техникум и работала в строительной организации ведущим инженером проектно-сметной группы. Но организация «приказала долго жить», и Раиса Васильевна найти работу так и не смогла. В бюро по трудоустройству вакансий по специальности не было, да, оказывается, и возраст её – 48 лет – уже не вписывался в новые экономические реалии. Устроилась сторожем в детский садик. Поработала год, потом заняла деньги, купила товар и открыла свой, с позволения сказать, «бизнес». Правда, за всё это время дальше одного метра арендованного прилавка на вещевом рынке не продвинулась. Но выжила.







