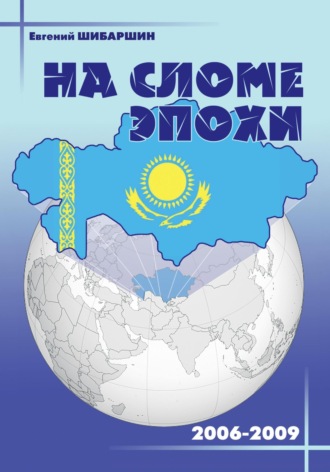
Полная версия
На сломе эпохи (2006-2009 годы)
«Наша газета», 19.10.2006
Жертвы в борьбе языков
Так ли страшен перевод делопроизводства на государственный язык, как о нём говорят?
На прошлой неделе руководство Ассоциации русских, славянских и казачьих организации Казахстана обратилось с письмом к депутатам Парламента. В нём выражается обеспокоенность по поводу того, что ускорение процесса перевода делопроизводства на государственный язык может породить новую волну эмиграции русских из Казахстана. Этому может способствовать и программа поддержки соотечественников, которая принята в России. Авторы письма считают, что такое развитие событий нанесёт большой урон стране, и поэтому предлагают с этим переходом не спешить. В ответ они готовы активизировать разъяснительную работу среди славян о важности владения казахским языком.
То, что казахский язык стал более активно применяться в работе государственных учреждений, действительно, стало заметно. Однако возникает вопрос: почему это вызывает беспокойство у людей, которые им ещё не владеют? Разве кто-то отменил применение русского языка в государственных органах наравне с казахским? Тогда откуда эта тревога? И почему вдруг опять заговорили о новой волне русской эмиграции? Может быть, ситуация кем-то нагнетается искусственно?
Давайте ещё раз внимательно проанализируем правовую базу, которая регулирует языковую политику в Казахстане. Начнём с главного документа – ст. 7 Конституции РК гласит: «В Республике Казахстан государственным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык».
Понятие «государственный язык» чётко сформулировано в ст. 4 Закона «О языках» – это «язык государственного управления, законодательства, судопроизводства и делопроизводства, действующий во всех сферах общественных отношений на всей территории государства». Что касается употребления русского языка, то в данном законе есть ст. 5, в которой дословно переписан вышеупомянутый п. 2 ст.7 Конституции, и далее его применение в различных областях детализируется.
Что касается делопроизводства, считаю не лишним процитировать ст. 8 вышеназванного закона: «Языком работы и делопроизводства государственных органов, организаций и органов местного самоуправления Республики Казахстан является государственный язык, наравне с казахским официально употребляется русский язык». И ещё – в ст. 10 записано: «Ведение учётно-статистической, финансовой и технической документации в системе государственных органов, организациях Республики Казахстан, независимо от форм собственности, обеспечивается на государственном и на русском языках».
Получается так, что по существующему в Казахстане законодательству перевод делопроизводства на государственный язык никакой угрозы гражданам, его не знающим, нести не должен. Потому что не отменяет обязательности ведения делопроизводства на русском.
Правда, в ст. 4 Закона «О языках» есть положение, которое гласит:
«Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является овладение государственным языком, являющимся важнейшим фактором консолидации народа Казахстана». Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы кто-то пытался оспаривать справедливость данного утверждения. Но ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что для этого нужно определённое время. Возможно, даже потребуется смена целого поколения. Что же касается перехода делопроизводства на государственный язык, то это акт скорее технический. Его можно провести в сравнительно короткое время. Тут главным сдерживающим фактором может быть только проблема перевода на казахский язык специальных терминов, а потому – для искусственного торможения этого процесса нет никаких оснований. Чем быстрее он пойдёт, тем лучше для казахстанского общества. Казалось бы…
Тогда откуда такое беспокойство у русских? К сожалению, основания для тревожных ожиданий есть. Приведу выдержку из письма Комитета по языкам Министерства культуры, информации и спорта РК от 19 октября 2005 года: «На основе графиков поэтапного перевода делопроизводства на государственный язык, утверждённых областными акиматами, разработан республиканский график и внесён на рассмотрение в правительство Республики Казахстан. В соответствии с данным графиком с 1 января 2010 года ожидается полный перевод делопроизводства в Республике Казахстан на государственный язык. В соответствии с п. 2 ст. 7 Конституции Республики Казахстан в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским официально употребляется русский язык. Это гарантирует русскому языку сохранение в полном объёме тех социальных функций, которыми он обладает в настоящее время. В перспективе русский язык будет оставаться одним из основных источников получения информации по разным областям науки и техники, средством коммуникации с ближним и дальним зарубежьем».
Обратите внимание – здесь не говорится о том, что с 1 января 2010 года, после «полного перехода делопроизводства на государственный язык», оно будет, в том числе, и на русском. Относительно русского языка речь идёт лишь о гарантии сохранения в полном объёме «социальных функций, которыми он обладает в настоящее время». По словам, которые употреблены в приведённой выше цитате, вроде бы никого нельзя обвинить в попытках нарушить Закон «О языках». Вместе с тем размытость смысла словосочетаний «полный переход» и «социальные функции» наталкивает на мысль, что у чиновников тут не обошлось без лукавства.
Не знаю, в какой степени подписавший данное письмо председатель Комитета по языкам Б. Омаров владеет казахским языком, но то, что он в совершенстве постиг премудрости русского, – налицо. Русскому чиновничеству, чтобы научиться так двусмысленно отвечать на конкретно поставленный вопрос, нужно было пройти большую школу бюрократии, которая формировалась в течение нескольких сотен лет российской государственности. Казахским госслужащим на обладание этим искусством понадобилось всего лишь 15 лет независимости своей страны. Впрочем, этот вирус поражает всех столоначальников мира, не разбирая, какой они национальности.
А тут ещё введение железнодорожных билетов с текстом только на государственном языке. Полную картину этой тенденции дополняют таблички на дверях структур Министерства юстиции и силовых ведомств, также написанные только на казахском языке. Если уж эти организации, поставленные обществом следить за соблюдением законности, сами нарушают ст. 19 и 21 Закона «О языках», то что ожидать от других? Надо понять, что именно двусмысленность и недоговаривание при разъяснении государственной программы перевода делопроизводства на казахский язык создают повод для выдвижения требований по приданию русскому языку статуса государственного. Хотя законодательство Казахстана формально эту проблему уже решило.
В этой связи вызывает недоумение позиция двух организаций. Почему органы прокуратуры, проверяя выполнение законодательства о языках, делают справедливые замечания по поводу ошибок, допущенных в текстах указателей, но «не замечают» нарушения, куда более опасные по своим последствиям? И как понимать руководство Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций, которое вместо того чтобы требовать соблюдения Конституции, обращаются с невнятными просьбами к законодателям, да ещё и устраивают при этом какой-то непонятный торг? Похоже, что в скрытой борьбе языка государственного с официальным в Казахстане есть уже и первая жертва. Её зовут – «язык Права». А ведь дальше могут быть уже и человеческие жертвы.
«Наша газета», 26.10.2006
Как сберечь лучшее?
Заканчивается срок реализации принятой два года назад региональной программы «Культурное наследие Костанайской области на 2005- 2006 годы». В ней ставилась цель «развивать духовную и образовательную сферы, обеспечить сохранность и эффективное использование культурного наследия» нашего региона. На запланированные мероприятия из республиканского и местного бюджетов предполагалось выделить 41 643 000 тенге. Есть ли какой-то эффект от вложенных средств?
Не врать
Мой собеседник – Бертран Рубинштейн – человек в наших краях известный. Воевал на фронтах Великой Отечественной, долгие годы руководил Костанайским отделением Целинной железной дороги, почетный гражданин Костаная и вообще – человек не ординарный и очень трепетно относящийся к истории. Это по его инициативе у железнодорожного вокзала установили паровоз, который в свое время «тащил» в наши края вагоны с первоцелинниками.
Мы листаем его недавно изданную книгу «Пока помню». На более, чем двухстах страницах – воспоминания о встречах с известными людьми, о событиях, участником которых он был лично, и множество фотографий. На мой вопрос: зачем ему понадобилось собирать в «кучу» все, что было о нем написано еще с 1938 года, Бертран Иосифович ответил:
– Я не мемуарист. Но книгу я использовал для того, чтобы мои друзья, родственники, которым я что-то о себе рассказывал, или они обо мне читали в газетах, смогли увидеть фотографии документов, подтверждающих, что я ничего о себе не соврал.
И тут же начал приводить многочисленные примеры из книги воспоминаний местных фронтовиков, где искажались не только факты, но и названия городов, населенных пунктов, рек. Понятно, что причина таких «вольностей» в преклонном возрасте людей, когда память начинает подводить, но ведь книга издается не на один год, и ее составители, по мнению Рубинштейна, должны быть более внимательны. Иначе такая книга утрачивает свою воспитательную ценность.
Не обошел он своим критическим вниманием и энциклопедию нашего края, выпушенную к 70-летию Костанайской области. Кстати, и профессор Костанайского пединститута историк Иван Терновой продемонстрировал мне грубейшую ошибку, допущенную составителями этого издания. Он показал ксерокопию постановления о создании Кустанайской области в составе Казахской АССР, в то время как составители костанайской энциклопедии поспешили присвоить нашей республике статус союзной республики, который она получила чуть позже. Вроде бы мелочь, но говорит о многом.
Что за скупыми цифрами?
Если также внимательно проанализировать региональную программу «Культурное наследие», то там четко просматривается определенный перекос в понимании самого словосочетания «культурное наследие». Отсюда и отношение к финансированию программы. 41 млн. выделенных средств – это, конечно, деньги. Но если сказать, что около 34 млн. из них ушло на капитальный ремонт памятника архитектуры (больше известного костанайцам, как спортзал «Енбек»), а шесть программных миллионов из республиканского бюджета на археологические исследования могильника Бестамак в Ауеликольском районе, возникает вопрос: а остальные одиннадцать пунктов программы как финансируются? Составители заложили в нее работу учреждений культуры (музея, филармонии, библиотек), которые должны были проводить мероприятия в рамках собственных бюджетов. И они это делали. Как и раньше. Независимо от наличия или отсутствия программы.
Складывается впечатление, что составители данной программы и депутаты областного маслихата, которые утверждали ее на своей сессии, зная об этих источниках финансирования, посчитали, что большего пока и не нужно. Тем самым оказались обойденными целые пласты культуры, ради которых и задумывалась в Казахстане эта программа.
Историков проигнорировали
Речь идет о многообразии человеческой жизни, которое и создает такой феномен цивилизации как культуру. И тут не обойтись без исследовательской работы историков. Тем более, если речь идет о культурном наследии родного края. Среди разработчиков региональной программы «Культурное наследие» управление архивами и документации Костанайской области. Руководитель управления Святослав Медведев сообщил, что когда формировался этот документ, он предлагал выделить деньги на архивные исследования, однако его предложение не прошло. Сотрудники к 70-летию области все-таки подготовили к изданию сборник архивных документов с конца 30-х годов, но это мелочи по сравнению с тем, что можно и нужно было бы сделать. Той самой досадной ошибки при издании энциклопедии могло не быть, если бы ее составители профессионально работали с архивными документами. Я поинтересовался у Святослава Александровича, часто ли за прошедшие два года у них были местные историки. Увы… Тогда как же пишется история нашего края?
– А никак, – говорит профессор Терновой. – Чтобы этим заняться, мы недавно создали Ассоциацию историков Костанайской области, и я решил выяснить, как предполагается поддерживать изучение истории нашего региона программой «Культурное наследие». В Департаменте культуры на меня смотрели с удивлением.
Иван Кондратьевич заявил, что у нас вообще культуру понимают однобоко. Он открыл книгу «Казахстан на рубеже веков: размышления и поиски», написанную нашим земляком академиком Манашем Козыбаевым и процитировал: «Мы ратуем за расширенное толкование этого поистине универсального понятия, охватывающего от алфавита до астрономии и космоса, от науки до культуры труда рядового труженики (наука, мировоззрение, литература, искусству, язык, семейно-брачные отношания, пища, одежда и т. д.)»
– Нужны средства для развития краеведения, – говорит костанайский историк. – Чтобы сформировать нового человека, гражданина, нужно научить его понимать все процессы, которые сегодня происходят. А это не возможно без передачи уже накопленного опыта предыдущих поколений. Это и есть культурное наследие.
Древние черепки
Я сижу в лаборатории археологических исследований Костанайского государственного университета. Передо мной глиняные кувшины, заботливо склеенные из мелких черепков. Им более тысячи лет. Младший научный сотрудник Ирина Шевник говорит, что эти находки сделаны в том самом могильнике Бестамак, изучение которого включено в программу «Культурное наследие». Подобных памятников в нашей области около тысячи. Есть среди них и такой уникальный, как городище Первомайка в Денисовском районе, которое сродни известному всему миру Аркаиму. Разница одна – наш «не раскрученный».
Строго говоря, шесть бестамакских миллионов, впервые выделенные костанайским археологам, пришли к нам по республиканской программе. А в региональную они попали чисто механически. Археологи благодарны государству за эту поддержку, вне зависимости от того, по какой программе это делается, но вообще-то формальность подхода настораживает.
Кстати, о реальном наследии. Финансирование Бестамака по программе прекращается в этом году. Между тем, говорят археологи, работы там еще – непочатый край. Будет ли пролонгировано финансирование раскопок? Пока не похоже.
Свои находки археологи передают в областной краеведческий музей. А там – уйдут в хранилище. В неидеальные, кстати, условия. О переполненности хранилищ этого музея давно известно. Тогда, может быть, в программе «Культурное наследие» предусмотрена реконструкция этого учреждения? Нет. Правда, в ремонт этого здания вложены немалые деньги, но они все пошли на создание Дома дружбы. На его базе работают национальные культурные центры, деятельность которых тоже вписывается в рамки сохранения культурного наследия. Но обидно: если в этой сфере у нас что-то и делается полезного, то обязательно в ущерб другому. Например, по неофициальным данным на оборудование Дома дружбы ушло около 90 млн. тенге. Если вы помните – на всю программу «Культурное наследие» выделено – чуть больше 41 млн.
Что имеем – не храним…
К сожалению, во все времена идеологические интересы влияют на
культуру. И наши в этом смысле – не исключение. Причем частенько в угоду идеологии сводится на нет огромная работа по формированию культурного наследия нации. По этой же причине происходит и навязывание ложных ценностей, которые, не выдерживая испытания временем, создают в обществе обстановку социальной апатии, безверия и цинизма.
Археолог Ирина Шевник недоумевает, почему результаты исследований могильников в костанайском регионе больше интересуют российских ученых, а не казахстанских? Ведь наш край тысячелетиями был транзитным для многих народов и поэтому впитал все богатство их культур. Да потому, что для многих казахстанских ученых гораздо выгоднее изучение истории тюрков. Таков сейчас политический заказ. Историк Иван Терновой с возмущением вспоминает историю с неоднократными перемещениями по Костанаю памятника Ленину, который по всем канонам представляет художественную ценность. Так ведь тут дело не в самом памятнике, а в идеологическом отношении к тому, кому он поставлен. Ветеран Бертран Рубинштейн с горечью говорит о попытках отправить на металлолом паровоз, который хотя и не представлял художественной ценности, но был символом начала гигантских преобразований в Казахстане, за счет которых он во многом успешнее других преодолевает сейчас трудные времена. И ведь все это материальные носители нашего противоречивого времени, без которых будущие поколения не поймут нас, а значит и себя.
К сожалению, в течение последней недели при всем моем старании получить комментарий у основного разработчика этой программы – управления культуры акимата Костанайской области – не удалось. Его сотрудники сослались на отсутствие директора, который был болен, а без его разрешения они такого права не имеют. Это тоже говорит об отношении к программе.
«Наша газета», 26.10.2006
Не навреди!
На прошлой неделе Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Южно-Казахстанскую область, где решил лично выслушать доклады местных руководителей о причинах массового заражения шымкентских детей ВИЧ-инфекцией. Комиссии, проводившие расследование всех обстоятельств этой трагедии, пришли к общему выводу: путаны и наркоманы, которые до сих пор считались главными распространителями
«чумы 20-го века», тут не причем. Заразу разнесли медицинские работники, которые халатно отнеслись к выполнению своего профессионального долга. Глава государства после полученной информации подвел жирную черту: «Ужас – до чего довели!»
Разговоров по поводу медработников, забывших клятву Гиппократа, в последнее время было много. Но за лесом гневных возмущений все как- то перестали замечать дерево власти, на ветвях которого выросли плоды этой беды. Наверное, потому, что министра здравоохранения и областного акима, хотя и с некоторым опозданием, но все-таки от занимаемых должностей освободили. Власть, таким образом, в глазах общественности себя реабилитировала. Тем не менее, одно обстоятельство заставляет к этой теме вернуться. Речь идет о словах, которые Президент РК произнес 21 сентября на заседании Совета Безопасности. Тем, кто смотрел по «Хабару» новостной телесюжет об этом событии, оно запомнилось сенсационной информацией о космической зарплате некоторых руководителей национальных компаний. А ведь там еще слушали отчет экс-министра здравоохранения Ерболата Досаева о причинах шымкентской трагедии. После жесткой критики по поводу недостатков в работе Минздрава глава государства риторически спросил г-на Досаева: «Я для чего тебя туда направил?»
А действительно? Для чего руководить деятельностью всех лечебных учреждениями страны направили человека, не имеющего медицинского образования? Так ведь для проведения реформ. Была надежда, что бывший предприниматель, можно сказать, человек новой формации, свободный от консерватизма, коим у нас хронически больны врачи и учителя, в кратчайшие сроки проведет все новации, без которых наша нация вряд ли доживет до 2030 года.
Напрашивается вопрос: неужели за все годы рыночных преобразований среди предприимчивых людей высокого полета так и не появились обладатели дипломов медицинских вузов? Говорят, что такие кадры есть. Вся беда в том, что их, во-первых, немного, во-вторых, они пашут уже на другой, не врачебной ниве. В частности, еще в конце 90-х годов один был замечен в составе управления национальной авиакомпании, другой после напряженной работы в силовых структурах был послан на прорыв в Министерство иностранных дел. Об успехах МИДа до избрания Казахстана председателем ОБСЕ говорить пока рано, что же касается названной выше авиакомпании, то она давно обанкротилась, похоронив под своими останками все лучшее, что было наработано казахстанскими авиаторами за предыдущие десятилетия. Хотя, за годы реформ у нас много, кто обанкротился. Возможно, вины в том гинекологов, объявивших себя большими доками в «управлении финансовыми потоками», нет, но и польза от них тоже пока не просматривается.
Конечно, когда в обществе происходят гигантские преобразования и появляются новые виды деятельности, многие люди меняют прежнюю специальность и пытаются найти новые способы самореализации. Но когда этот огромный потенциал используется не для созидания, а для разрушения, невольно возникает вопрос о системе, которая способствует именно такому течению событий.
Не берусь судить об управленческих качествах г-на Досаева, но почему ему поручили реформировать именно здравоохранение? Той отрасли, где каждая управленческая ошибка напрямую может обернуться потерей человеческих жизней? Почему в эту сферу пускают людей, для которых гиппократовское «Не навреди!» имеет очень абстрактное содержание? Неужели только потому, что они теперь так же, как и врачи, после своего назначения принимают клятву на служение народу?
К сожалению, получается так, что в Казахстане, который хотя и лидирует в СНГ по количеству принимаемых законодательных актов, регулирующих деятельность государственных служащих, до сих пор на некоторые посты назначаются люди, далеко не по профессиональным качествам. Впрочем, у людей, которые делают высокие назначения, по этой части, возможно, есть и свои «высокие» соображения, неведомые обычному житейскому уму.
«Наша газета», 02.11.2006
Зачем акиму благородные порывы?
Глава Костанайской области предлагает предпринимателям принять меры по повышению заработной платы.
В то время, когда по всему Казахстану обсуждалась тема неимоверно высоких должностных окладов руководителей национальных компаний, аким Костанайской области Сергей Кулагин обратил внимание, что на предприятиях и в организациях, расположенных на вверенной ему территории, есть много должностей, где заработная плата установлена на уровне минимальной ставки.
И решил областной голова написать акимам городов и районов, руководителям предприятий открытое письмо, в котором предлагает принять меры по повышению заработной платы. Прежде всего – аграриям. У них средняя зарплата сейчас – 16 090 тенге. Глава области предлагает повысить ее до 20 000, так как на мировом рынке зерна сложилась благоприятная ситуация, и это создает достаточные экономические основания для повышения оплаты труда на селе. Не забыл аким и промышленность.
Ссылаясь на пример Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного объединения, где до конца года предполагается увеличить зарплату в среднем на 22% (до 50 тыс.тенге), он предлагает в рамках областной трехсторонней комиссии по социальному партнерству разработать систему мер, чтобы и остальные костанайские промышленники поступили также и заодно предусмотрели для своих работников решение жилищной проблемы.
«Черная касса» нравится всем
Саму по себе инициативу костанайского акима можно отнести к разряду благородных. Но станет ли она продуктивной? Неужели предприниматели до сего момента если и не заботились о зарплате своих работников, то исключительно потому, что не было по этому поводу «отеческого» наставления со стороны главы местной власти?
После того, как государство предоставило предпринимателям право самостоятельно строить свою систему оплаты труда, ограничив нижний предел минимальной заработной платой, в Казахстане сформировалась очень пестрая картина размеров зарплаты по отраслям и регионам. В той же Костанайской области за 6 месяцев 2006 года номинальная средняя зарплата у сотрудников финансовой сферы оказалась в 3,3 выше, чем у сельчан. Но это крайние точки. Между ними: работники здравоохранения
– 20264 тенге, образования – 21850, строители – 29529, работники промышленности – 33343 и т. д. Если говорить о разнице между регионами Казахстана, то средняя зарплата в целом по Костанайской области за этот период составили 27099 тенге, в то время как по республике она уже на начало текущего года была 33 807. Однако, если соотношение зарплат между отраслями внутри каждой области сравнивать с другими регионами страны, то положение будет примерно везде одинаковое. На первом месте обычно идут финансисты, потом добывающая промышленность, а на последнем – сельчане.
Нравиться это кому-то или нет, но, очевидно, тут срабатывает несколько объективных факторов, включая и значимость отрасли в сложившемся на сегодняшний день общественном разделении труда. А это, в свою очередь, накладывает своей отпечаток на поведение предпринимателей по всему спектру его деятельности. Включая и определение, какую долю из общих доходов они могут выделить на оплату труда своих работников.







