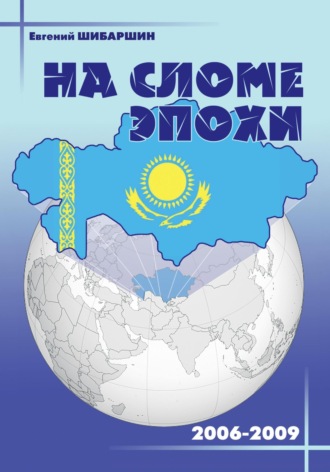
Полная версия
На сломе эпохи (2006-2009 годы)
– А в перспективе? Ведь за последние годы количество рейсов если и увеличилось, то немного. Наверняка желающие летать есть, но ведь цены «кусаются»…
– Да, спрос на авиационные перевозки есть. На Алматы и Астану рейсы сейчас постоянно загружены. Летом мы даже могли бы отправлять пассажиров в 2 раза больше. Если бы туда летали самолеты с большим количеством кресел, то мы бы их заполняли. Понятно, что цены на билеты влияют в первую очередь на количество желающих воспользоваться услугами авиации. Если, например, мы начинали субсидированные из бюджета рейсы в Астану с ценой за билет 5000 тенге, то после перехода на 9500 тенге количество пассажиров не изменилось. Но мы понимаем, что по этой цене летать может не каждый человек. Я хочу лишь сказать, что даже при достаточно дорогих билетах мы еще не в полной мере удовлетворяем потребности костанайцев.
– Что мешает возобновить, как это было в советское время, полеты в Аркалык и отдаленные райцентры нашей области? Да и в соседний Челябинск очень большой пассажиропоток сегодня.
– Если говорить о перевозках в ближайшие города России, то, на мой взгляд, в СНГ очень много говорят о развитии взаимной торговли, культурных обменах и ничего – о пассажирских перевозках. Ни у нас в Казахстане, ни в Челябинске или Екатеринбурге не находится такой авиакомпании, которую бы заинтересовали направления, о которых вы говорите. Все стремятся летать на большие расстояния, особенно увлеклись выполнением рейсов с туристами. Так выгоднее экономически. Что касается полётов на местных воздушных линиях по Костанайской области, то у авиакомпаний, которые базируются в нашем аэропорту, нет подходящего самолётного парка. Те «Ан-2», которые вы видите на наших стоянках (их у нас 78), оборудованы под сельхозработы, а транспортных среди нихвсего два. Они выполняют санзадания и работы по ЧС.
– Но ведь ещё зимой сообщалось о предполагаемой закупке нескольких самолетов «Ан-3» в пассажирском варианте.
– Да, в декабре прошлого года Омский завод у нас проводил презентацию своего самолёта, и с тех пор мы каждую неделю созваниваемся с ними по поводу возможности приобрести эти машины. Они очень заинтересованы в нашем рынке. Мы пытаемся выбрать какой-то взаимовыгодный вариант: либо взять самолеты в лизинг, либо работать на основе совместного использования, но пока проблема не решена. Главная причина – у авиакомпании нет таких средств. Без государственной поддержки костанайским авиаторам такая покупка не под силу.
– Какая-то странная ситуация складывается на казахстанском рынке авиационных перевозок. Вы говорите, что у нас доминирует одна национальная компания «Эйр Астана» и больше никого не видно на подходе. В то же время потребность в перевозках полностью не удовлетворена. Тогда почему не находятся люди, которые уцепились бы за реальную возможность зарабатывать деньги? Или их не пускает монополист, которому выгодно за счет высокой цены на билеты жить лёгкой жизнью?
– Авиация – удовольствие дорогое. И всё не так просто. Конечно, это неправильно, что среди авиакомпаний нет конкуренции по пассажирским перевозкам. Тут действительно эксклюзивным правом как на внутриреспубликанские рейсы, так и на полеты в дальнее зарубежье, обладает «Эйр Астана». Которая к тому же наполовину частная. И цены на билеты они устанавливают сами, хотя и по согласованию с антимонопольным ведомством. Нужно сказать, что основной фактор, который влияет на стоимость билетов, – это всё-таки высокая себестоимость каждого рейса. Особенно ощутимо сказывается цена на авиационное топливо. Но есть и другие факторы. Дело в том, что остальным компаниям, которые в Казахстане всё-таки есть, очень сложно конкурировать с «Эйр Астаной». Они без поддержки государства не могут приобрести дорогостоящую авиационную технику. Без государственной программы развития не могут нормально работать и аэропорты. Ведь сооружения со временем разрушаются, наземная техника тоже требует обновления.
– Кстати, местные СМИ сообщали, что по государственной программе развития воздушного транспорта предполагается выделение средств на ремонт аэродрома в Костанае. Это действительно так?
– Да, в соответствии с программой в 2008-2009 годах предполагается выделение из республиканского бюджета средств для реконструкции в Костанае взлётно-посадочной полосы и пассажирского терминала.
Нужны молодые специалисты
– Хорошо, будут у нас самолеты и аэропорты, оборудованные современной техникой, но кто там будет работать? У нас ведь сейчас в основном учат на юристов, финансистов и экономистов.
– Авиаторов по нескольким специальностям сейчас готовит Академия гражданской авиации в Алматы. Но этого, конечно, мало. Пилоты могут переучиться на другую технику в Челябинске, Екатеринбурге и других российских городах.
– За чей счёт?
– Если они нужны авиакомпаниям, те и обеспечат финансирование. Переучиться на самолет «Ан-3» костанайские пилоты, летающие сейчас на «Ан-2», смогут в Омске. Что касается авиационных техников, которые у нас сейчас занимаются обслуживанием транзитных воздушных судов, то новое пополнение к нам уже давно не приходило. Работают, в основном, опытные, высокопрофессиональные специалисты, которые начинали ещё в советское время.
– И насколько их хватит без пополнения молодыми?
– Лет на 7-9. Ну, может, ещё на пару лет после достижения пенсионного возраста.
«Наша газета», 14.09.2006
Миссия невыполнима
– Мы будем выстраивать качественно новую модель государственного управления, где во главу угла будут поставлены интересы потребителей государственных услуг, – так, выступая на открытии очередной сессии Парламента РК, Президент Нурсултан Назарбаев обозначил цель предстоящей реформы государственного аппарата.
Для некоторых депутатов такой зачин как будто стал сигналом к действию. Они тут же сделали запрос по поводу причин массового заражения детей ВИЧ-инфекцией в Южно-Казахстанской области, предлагая при этом привлечь к ответственности министра здравоохранения. Депутат Мажилиса Серик Абдрахманов заявил журналистам:
– Мы знаем о махинациях в министерстве с бюджетными средствами, а они составляют треть от всех незаконно использованных бюджетных средств. Почему он непотопляем? Мы видим, что он не финансист, не менеджер и не министр здравоохранения.
Возможно, такая оценка деятельности главы Минздрава Ерболата Досаева последовала после того, как он, признав вину медицинского
персонала и руководства департамента здравоохранения Южно- Казахстанской области в этом ЧП, посетовал, что они находятся в ведении областного руководства и поэтому никаких мер к ним сам принять не может. Действительно, руководителей департаментов назначает аким области. Депутаты об этом знают, но требуют отставки именно главы медицинского ведомства. Впрочем, в словах мажилисмена Абдрахманова есть и другие аргументы, подкрепляющие его мнение о необходимости смены министра, поэтому пусть они там разбираются сами. Но заметим – г-н Досаев на все эти наскоки заявил:
– Мою судьбу будет решать только президент.
Данный пример «кадровых коллизий» интересен прежде всего тем, что какие бы идеи по реформированию государственного аппарата не предлагались, у нас зачастую срабатывают факторы, стоящие далеко от интересов общего дела. Чем руководствуются депутаты, требующие применения радикальных мер к министру, но оберегающие акима, и о чём думал сам аким, ожидающий, когда у него директор департамента здравоохранения сам уйдёт в отставку? Не получится ли так, что вся эта система рейтингов и аудитов, при помощи которых глава государства предлагает определять эффективность деятельности акиматов, будет подмята субъективностью оценок, которые выставят потом вышестоящие начальники?
Обстоятельств для субъективности более чем достаточно. Кто-то чей-то родственник, кто-то – земляк или однокашник, а кого-то можно просто недолюбливать.
В среде госслужащих давно уже «просекли», за счёт чего там можно выжить. Когда видишь, как акимы подсуетились, чтобы «украсить» весь маршрут движения президента флажками и воздушными шарами в руках восторженных граждан, оптимизма по части формирования «нового лица» казахстанского госслужащего (о чём говорил депутатам глава государства) не испытываешь. Не скажу, что г-н Назарбаев у какой-то части населения не пользуется авторитетом, но для чего по этому поводу организовывать массовый психоз? А для того! Ведь судьбу акима тоже «будет решать Президент», какой бы рейтинг ни складывался у чиновника в результате исследования социологов. И так по всей «президентской вертикали».
Смогут ли в таких условиях профессионализм и честность стать приоритетными качествами у госслужащих? Вряд ли. Хотя не скажу, что работу госслужащих оценивают только по признакам личной преданности их акиматовскому или министерскому шефу, но и собственному мнению в оценках их труда тоже не потворствуют. Потому и мало у нас чиновников, рискующих решать сложные вопросы, не заручившись одобрением своего начальника. Правда, это не относится к случаям мздоимства. Но деньги, как известно, не любят суеты, поэтому, если кто-то и решается на такие дела, то совершает их в условиях полной интимности.
Пока для реконструкции органов исполнительной власти у нас используются только инструменты, которые контролирует сама же исполнительная власть. Если у неё и есть ещё какие-то резервы, то радикальным способом ситуацию они изменить не смогут. В отсутствие реального контроля со стороны органов представительной власти предстоящие изменения чиновничьего «лица» будут лишь пластической операцией. Заменить этот рычаг сходами, на которых акимы рассказывают населению о делах на вверенной им Президентом территории, невозможно.
А пока сообщения в прессе о всё новых фактах заражения детей в Южно-Казахстанской области похожи на фронтовые сводки. За последние две недели число больных увеличилось с 40 до 55.
«Наша газета», 21.09.2006
Алма Дощанова: Нам нужен другой тип мышления
В региональную программу Костанайской области на 2004-2006 годы по реализации Стратегии индустриально-инновационного развития РК включено 77 инвестиционных проектов на сумму 255 млрд. тенге. Большая часть запланированного уже выполнена. Однако все ли программные объекты, пусть и оснащённые современным оборудованием, можно считать инновационными? Ведь в нашей области до сих пор не работает ни одна структура, способствующая инновационному развитию.
О технопарке поговорили и забыли, то же самое – о бизнес-инкубаторе. И даже молочный кластер, в создание которого уже вложено много сил, как инновационная структура ещё не заработал. Туда ли уходят деньги, предусмотренные бюджетом развития? На вопросы «Нашей газеты» отвечает директор Института экономики и финансов Костанайского госуниверситета, председатель общественного объединения «Инновационно-консультационный центр» Алма Дощанова.
Без денег инноваций не будет
– Алма Иргибаевна, слово «инновация» в последнее время мы слышим часто, но складывается впечатление, что далеко не все понимают его смысл.
– Этот термин предложил австрийский экономист Джозеф Шумпетер.
Инновации – это одновременное проявление двух миров: техники и бизнеса. Когда изменение происходит только на уровне технологии, Шумпетер называет его «изобретением». Но когда к изменениям подключается бизнес, они становятся «инновациями». Изменение в технологии приводит к появлению нового продукта, он требует изменения в организации бизнес-процессов. В конечном счёте, это может привести к формированию новых рынков. Первые микрокомпьютеры были созданы в 70-ые годы подростками в Калифорнии. Они собирали их из уже существовавших деталей, которые продавались в магазинах. Вскоре этот продукт создал для себя новый рынок, и за короткое время появилась совершенно новая отрасль.
– У нас немало людей, которые придумывают эти «новые продукты». Почему их «придумки» не становятся инновациями? Почему внедрение этих идей никто не хочет финансировать из местного бюджета? Для чего тогда существует ваш «Инновационно-консультативный центр»?
– Хочу сразу сказать, что наша организация работает на общественных началах и ее тоже никто не финансирует. Наша миссия обозначена в названии. Мы можем только консультировать. К нам не раз обращались изобретатели, но они чаще нуждаются в финансовой поддержке, и мы тут помочь им не можем. К сожалению, мы не можем их соединить и с заинтересованными производителями. Их изобретения бизнесом пока не востребованы. Приходят к нам и предприниматели. Но зачастую они хотят начать свое дело, которое не имеет никакого отношения к инновациям. Им нужна помощь в составлении обычного бизнес-плана. Это не инновационная деятельность. Технологическая цепь инноваций состоит из исследований, разработки и распространения. В первом звене НИИ и вузы проводят научные исследования различных идей, во втором – это всё воплощается в конкретные разработки, которые затем переходят в третье звено – производство. На выходе должен получиться готовый продукт, уходящий на рынок. Я видела задачу нашего центра в создании такой цепочки при реализации инновационных идей. Мы хотели объединить местных молодых амбициозных ученых, которые могли бы внедрить свои проекты в рамках областной программы индустриально-инновационного развития. К сожалению, нам похвастаться пока нечем.
Молочный кластер
– Вы участвовали в проекте по созданию в нашей области молочного кластера. О нём уже забыли?
– Областной акимат провел большую организационную работу, но говорить о функционировании этой структуры как инновационной преждевременно. Главная причина, на мой взгляд, в том, что реализация этой идеи до сих пор не подкреплена хорошей научной проработанностью всей системы соединения производителей, переработчиков и продавцов молочной продукции. Мы начали изучать факторы, из которых складывается себестоимость товара на каждом этапе его прохождения – от производителя сырья до потребителя конечного продукта, и выявили столько ценовых нестыковок, что для их устранения придётся потратить немало сил. Однако денег на эти исследования пока никто не выделяет.
– Странно. Мы много говорим о том, что Казахстан должен строить свое развитие на основе инноваций, в республике даже создано несколько институтов развития, которые призваны финансировать этот процесс, а на конкретную работу у нас денег нет. По сути, и проекты программы так называемого индустриально-инновационного развития области реализуются в основном за счёт кредитов, взятых предпринимателями под высокий процент. И тратятся они не на отечественные инновации, а на закупку оборудования, изготовленного за рубежом.
– Наши проекты, которые направляются в Инвестиционный Фонд Казахстана, в Банк Развития Казахстана и другие финансовые институты развития, проигрывают по своему качеству проектам из Алматы, Астаны и Караганды. Объясняется это просто – там более сильный исследовательский потенциал, имеющий опыт в разработках прикладного характера.
Не будем играть словами
– Давайте не будем обманывать себя красивыми и модными словами. Оставим разработку инновационных предложений для нескольких НИИ, которые еще с советских времен работают в Казахстане. Пусть государство их финансирует по полной программе, а они, в свою очередь, наладят деловые контакты с наукоемкими производствами, если таковые ещё остались в РК. А местные предприниматели пусть закупают современную технику за рубежом. Может, мы так быстрее впишемся в те самые 50 самых развитых стран мира?
– В ответ я позволю себе процитировать слова президента Нурсултана Назарбаева, которые он сказал, выступая перед студентами Евразийского университета: «Конкурентоспособные технологии, как стержень инновационной экономики, сами по себе не появляются. Это долгий процесс, трудно вынашиваемый плод научных исследований, сложных и затратных экспериментов и, наконец, идейного озарения ученых. Для организации производства товаров, можно, конечно, приобрести зарубежную технологию. Но не будем забывать, что ни одна уважающая себя страна не станет устраивать продажу новых технологий и секретов производства. Кроме того, если опираться только на заимствованные технологии, то мы законсервируем нашу технологическую отсталость и окажемся в зависимости от технологически и научно развитых стран». Костанайская область располагает богатыми запасами недр, но её экономика традиционно во многом строилась на развитии аграрного сектора. Так разве научно- производственный центр, который возглавляет Валентин Двуреченский, не играет сейчас ведущей роли в разработке и внедрении новых технологий обработки земли именно в нашем регионе? А возрастающая потребность аграриев в современной технике… Не создаёт ли она предпосылки для становления у нас машиностроения с соответствующим научным потенциалом?
И для бизнеса нужен инкубатор
– Тогда почему у нас такие большие проблемы с финансированием инновационной инфраструктуры? Я имею в виду вашу организацию, несуществующие технопарк и бизнес-инкубатор, которые помогали бы соединять предпринимателей с наукой.
– Я недавно была в Израиле, изучала опыт развития предпринимательства. Нас возили в бизнес-инкубатор, который располагается на берегу Мёртвого моря. Это целый город, в котором начинающие предприниматели на льготных условиях несколько лет реализуют свои бизнес-проекты. Деньги в инкубатор вложили евреи, которые живут за рубежом. Им проект приносит определенный доход, но небольшой. Главное, что ими движет, – желание помочь своей исторической родине. У нас таких меценатов пока нет. Другая ситуация там и с научной мыслью. У нас в области живет около 1 млн. человек и университетов с десяток, а в Хайфе, где мы были, при семимиллионном населении всего два университета: государственный и частный. Причём частный основал Альберт Эйнштейн, и он сейчас является ведущим в мире по развитию инженерной мысли. Там традиции разработки высоких технологий существуют давно, и они теперь приумножаются. У нас же ещё только закладываются. Мы недавно получили письмо, в котором Центр инжиниринга и трансфертных технологий РК предлагает молодым ученым разработать инновационные проекты. Победитель конкурса может получить $50 000. Раньше подобных предложений не было. Но и мы пока к ним не готовы. Два года назад на аналогичное предложение у нас никто не откликнулся.
И в Китае тоже лучше?
– Мы в своем желании быстрее развиваться почему-то берем за эталон модели, которые действуют в развитых странах (например – кластер), а потом всех напрягаем, искусственно подтаскивая под них. В итоге существенной прибавки не получаем, и сама идея дискредитируется. А в это время соседний Китай наполняет чуть ли не весь мир своим ширпотребом, и зарубежные инвесторы вкладывают туда огромные деньги, не заботясь об отсутствии там демократии.
– Что касается заимствованных моделей, то в Израиле нам читал лекцию один профессор, и когда я рассказала ему о нашем молочном кластере, он с удивлением спросил: «А кто их будет соединять? Самое главное – это их заинтересованность. Если ему выгодно, он будет туда входить, а насильем объединять… Я вас не понимают, господа». Я хотела услышать от него совета, с чего нужно начинать создание кластера, а он высказал очень простую истину: в условиях рынка, постоянной конкуренции, если кому-то что-то невыгодно, он на это никогда не пойдёт. Поэтому мы должны, прежде всего, думать о том, как можно объединить тех, кто сегодня конкурирует в молочном секторе.
Относительно китайцев хочу сказать: у них свои традиции. Они ночью будут работать, чтобы с утра их товар был лучше, чем у соседа. Если что- то и есть плохого качества, то это оттого, что его всё равно покупают. При этом они живут бедно. Но попробуйте заставить нашего безработного выполнять общественные работы. Там готовы трудиться за гроши. Я была очень удивлена во время поездки в Китай, когда узнала, что за неделю работы со мной моя переводчица получила всего $20. Это человек, имеющий высшее образование, знающий несколько иностранных языков!.. Нам вообще нужно прививать сегодняшней молодежи другой тип мышления – склонный к новациям. Как это сделать? Тут нам, преподавателям вузов, есть над чем поработать.
«Наша газета», 28.09.2006
Петр Своик: Я за то, чтобы Президент правил пожизненно, но…
Известный казахстанский политик Пётр Своик согласился прокомментировать для «Нашей газеты» некоторые политические события.
– Недавние массовые беспорядки в столице Венгрии были вызваны признанием премьер-министра в обмане избирателей во время недавних парламентских выборов. Нам в Казахстане такая причина для погромов, которые учинили в Будапеште, не очень понятна. Мы не раз уже были обмануты нашими политиками, но никто ни разу не собирался по этому поводу так бурно возмущаться. Может, там были другие причины? Или венгры, в отличие от нас, сделаны из другого «теста»?
– Венгры, как люди, сделаны из того же теста, что и русские, и казахи. Но у нас лицемерие, скрытый обман, а зачастую и прямая ложь со стороны власти стали нормой. А венгерское общество воспринимает власть как структуру, которая должна исполнять то, для чего её избирали. Венгры проголосовали за социалистов, а не за какую-то буржуазную партию. Там давно уже прошли радикальные реформы, поэтому вопросы экономического развития и социальной справедливости стали реально конкурировать между собой. А тут выбор очень простой: либо зажимать простых трудящихся, но тогда создавать капитал и развивать экономику, либо по-больше собирать в бюджет и давать социальные льготы. Избиратели же исходят из того, что им обещают.
Насколько я понимаю, в Венгрии, в данном случае, не было сознательной лжи. Ведь премьер-министр в чём сознался? Дескать, мы обещали избирателям, но до сих пор не сделали. Давайте же делать! Он сказал нормальные вещи, но даже это взорвало общество. Если у нас судья судит не по закону, а по звонку или за взятку, и для нас это нормально, то в их обществе такое воспринимается как нонсенс, как извращение, как уродство. И реакция у людей соответствующая. Можем ли мы стать таким обществом? Можем. Но не за один день.
– Что для этого необходимо изменить в Казахстане?
– Само по себе общество измениться не может. Как ни странно, но у нас это можно сделать только при помощи самой власти. Какая власть, такое и общество. Глубочайший цинизм и неверие, которые пронизывают общественные институты в Казахстане, порождены властью. Волны цинизма и скепсиса, того, что нужно заботиться только о себе, в лучшем случае о своих родственниках и своём клане, но не о стране и народе – это идёт сверху. А если кто-то делает по-другому, значит он ненормальный, дурачок. Только власть может задавать обществу тон.
У венгерских событий есть и другой аспект. Ещё недавно нас пугали погромами в Киргизии, теперь аналогичное происходит в относительно благополучной стране Восточной Европы. Можно вспомнить и акции протеста во Франции. Невольно образ демократии в массовом сознании казахстанцев начинает складываться из перевёрнутых автомашин и разграбленных магазинов. В то же время в нашей стране, которую ругают за авторитаризм власти, достаточно спокойно. Погромы – это всегда плохо. Они могут случиться в любом государстве. То, что в Венгрии молодые люди дошли до таких действий, не должно стать поводом для запугивания в интересах сохранения нашей системы.
Самое опасное у нас то, что власть держится на одном человеке. И дело не в том, что данный пост кому-то не достался и этот человек теперь обиделся. Когда дочь президента говорит, что мы стоим на одной ноге и нога эта – президент, можно ответить: стоять на одной ноге – неудобно, а ходить – вообще невозможно. У системы власти должно быть даже не две ноги, а несколько. Нормальная технология устойчивости общества требует наличия у политической системы нескольких точек опоры. Что нужно сделать для этого в Казахстане? Безусловно, пост президента необходимо сохранить. Но президент должен быть балансом между ветвями власти. Когда они не могут работать друг с другом слаженно, когда между ними возникают какие-либо коллизии, тогда полномочия президента должны работать в полную силу. Сам же президент не должен быть ветвью власти. В стране должно быть правительство, и премьер-министр, его возглавляющий, должен быть вполне самостоятельной фигурой. Но только в части исполнительной власти. Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, председатели обеих палат Парламента и руководители его комиссий также должны быть самостоятельными фигурами. Это и будут реальные точки власти, за которые будет смысл побороться различным партиям. Но названные посты не должны стать местами, где «распиливают бабки». Тут реальная власть должна сопровождаться и соответствующей ответственностью.







