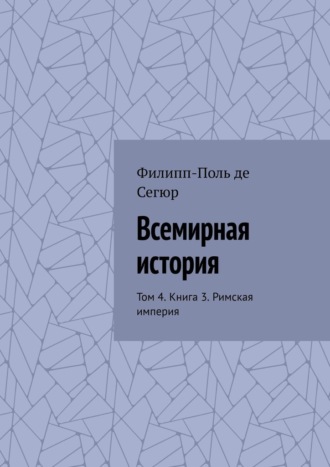
Полная версия
Всемирная история. Том 4. Книга 3. Римская империя
Виндекс уже атакует его в Галлии, и его легионы надеются на меня, чтобы добиться падения тирана. Я жду вашего согласия, чтобы не претендовать на императорское достоинство, которое я почитаю без претензий, но посвятить конец моих дней и мои силы освобождению моей родины; и как… Он хотел продолжать; общий крик и всеобщее рукоплескание солдат и народа провозгласили его императором.
Он скромно отказался от этого титула и принял титул лейтенанта сената и римского народа.
Оттон, губернатор Лузитании, объявил себя сторонником Гальбы и даже прислал ему свои собственные деньги и посуду, чтобы покрыть расходы на его предприятие.
В то время как против Нерона поднималась такая страшная буря, этот глупый принц с триумфом въехал в Неаполь и погрузился в разгул разврата. Первые известия об отступлении галлов скорее обрадовали его, чем обеспокоили; он видел в этом лишь новые предлоги для увеличения своих сокровищ и удовлетворения своей жестокости1.
Его суеверная уверенность основывалась на дельфийском оракуле. Аполлон, как говорят, предупредил его, чтобы он боялся числа 73; и, поскольку он был в расцвете сил, он почти не боялся смерти, которая, казалось, могла постигнуть его только в столь преклонном возрасте. Но когда другие курьеры, принесшие вести о ходе восстания, сообщили ему, что армии Галлии и Испании провозгласили Гальбу императором и что этому полководцу семьдесят три года, он потерял и мужество, и надежду, он впал в глубочайшее смятение. Столь же трусливый, сколь и жестокий, он не сделал ни малейшей попытки защитить себя и восемь дней просидел взаперти в своем дворце, не отдавая никаких приказов. Он лишь осудил манифест Виндекса в сенате и использовал предлог серьезного неудобства, чтобы оправдать свое отсутствие в Риме в столь критический момент.
Трусливые страхи этого глупого человека, хотя и поглощали все его способности, все же не умерили детского тщеславия, внушенного ему мнением о его талантах художника; и больше всего его раздражало в манифесте галлов то, что Виндекс называл его нечестивым поэтом и невежественным музыкантом. Пусть он докажет свои слова, – возмущался он, – и пусть ищет по всей вселенной человека, более искусного в моем ремесле!
Что часто характеризует слабость, так это чрезвычайная подвижность, с которой мы видим, как она последовательно переходит от страха к надежде и от надежды к унынию.
Сенат объявил Виндекса врагом государства. С этого момента Нерон, успокоившись, перестал бояться врагов и вернулся в Рим. Консулы отправились к нему; он рассказал им только об изобретении гидравлической машины, издающей гармоничные звуки, которую, по его словам, он хотел бы показать народу на театре, если Виндекс даст ему время.
Новые курьеры возродили его опасения; сенат развеял их, изгнав Гальбу.
Он приказал расправиться со всеми правителями провинций, умертвить всех изгнанных, разграбить Испанию и Галлию: говорят даже, что он задумал отравить всех сенаторов на пиру, второй раз предать Рим огню и выпустить на улицы свирепых зверей из цирка, чтобы помешать народу потушить пожар. В то же время он объявил, что собирается выступить в поход против своих врагов, и сформировал гвардию из женщин-проституток, которых он одел и вооружил, как амазонок.
Сенат, патриции, рыцари, народ и солдаты, наконец, подняли восстание и поклялись убить это чудовище. В ярости он разбил две хрустальные вазы и попросил у своих рабов золотую шкатулку, содержащую тонкий яд. Спустя мгновение он отправил курьеров в Остию, чтобы те приказали флоту быть готовым принять его.
Ему сообщили, что преторианцы отказались следовать за ним; дрожа и сомневаясь, он не знал, следует ли ему бежать и искать убежища у парфян; не лучше ли просить Гальбу о помиловании; или, облачившись в траур, не попытаться склонить на свою сторону римский народ, умоляя его позволить ему управлять Египтом. В конце концов он выбрал последний вариант.
Среди ночи он понял, что его охрана покинула его и что его дворец разграблен; он поспешно встал с постели, позвал своих недостойных министров и трусливых фаворитов, но никто не ответил ему: он оказался посреди столицы мира, как беглый раб в пустыне.
Он хотел применить яд, но его у него отняли: он тщетно взывал к гладиатору Спицилию. Неужели я не найду ни друзей, чтобы защитить меня, ни врагов, чтобы убить? Разъяренный, он покинул дворец и побежал бросаться в Тибр.
Фаон, один из его вольноотпущенников, остановил его и предложил ему убежище в своем загородном доме в четырех милях от Рима: он согласился и бежал, завернувшись в грубый плащ. Его единственным эскортом был печально известный Спор и три раба.
По пути его ждало сильное землетрясение, а сверкание молний, рассекавших темные тучи, усилило его ужас. Он считал, что его преследуют как боги, так и люди, и принимал любой предмет и любой шум за тень и крик одной из своих жертв.
Проходя недалеко от лагеря преторианцев, он слышит, как солдаты бросают в его адрес проклятия, и встречает нескольких путников, которые, увидев его, говорят Это, должно быть, те самые люди, которые ищут печально известного Нерона, чтобы убить его. Охваченный ужасом и страхом, он поспешил прочь от дороги, погружаясь в заросшие травой тропинки; наконец он добрался до задней части двора Фаона, устало опустился на тростник и, взяв в руки воду из пруда, сказал: «Вот, значит, спиртное, предназначенное для Нерона! Его рабы прорыли под стеной дыру, и император, скользя, как мерзкая змея, проник во двор через это отверстие и попал в уединенную комнату, где оставался взаперти в течение двадцати четырех часов.
Тем временем собравшийся сенат, объявив его врагом страны, приговорил его к суровым наказаниям по древним законам. Фаон принес ему этот указ, и, когда он попросил объяснений, ему сказали, что, согласно древним обычаям, как враг государства он должен быть привязан к столбу на площади, забит до смерти и брошен в Тибр. Увы, – ответило глупое чудовище, – такой прекрасный музыкант должен погибнуть!
Страх перед грозившими ему мучениями, казалось, сначала придал ему немного твердости; вынув из пояса кинжал, он приставил его острие к своей груди; но трусость не позволила ему нанести удар, он разрыдался и умолял окружающих показать ему пример мужества. Вдруг по двору пронесся шум лошадей, и он услышал голоса офицеров, искавших его; тогда, одолеваемый отчаянием, он попросил Епафродита поддержать его руку и вонзил кинжал ему в горло. Он еще дышал, когда в квартиру вошел сотник, отвечавший за его арест, хотел перевязать ему рану и сказал, что пришел помочь ему. Ты опоздал, – ответил Нерон, – разве это та верность, в которой ты мне клялся? При этих словах он умер, все еще грозя небесам своим ужасным видом.
Нерону было тридцать два года, и он царствовал тринадцать лет. Он умер в 821 году от основания Рима, в 68 году от рождения Иисуса Христа, в 112 году от свержения республики Юлием Цезарем и в 94 году от полного установления монархии Августа. Разъяренный народ опрокинул его статуи и расправился с некоторыми из его министров; они хотели бросить его тело в Тибр; две женщины, которые воспитывали его в детстве, и Актея, его первая любовница, собрали его останки и положили их в гробницу Домиция.
Глава III
ГАЛЬБА; его возвышение к империи; его портрет; его суровость; его смерть.
ГАЛЬБА (68 год)
Весть о смерти Нерона вызвала величайшую радость у всех, кто опасался опасности, хотел поддержать репутацию, сохранить состояние. Люди бродили по улицам, как в праздничные дни; они обнимали друг друга, не зная друг друга. Друзья добродетели и свободы поздравляли друг друга и своих клиентов с тем, что земля очистилась от чудовища.
Сенат, торжествуя по поводу падения тирана, как будто он один сверг его, льстил себе, что вернет себе свои права; но гнусный сброд, порочные рабы, жадные вольноотпущенники и люди, для которых счастье заключалось в избытке пороков, в обилии празднеств, в страсти к играм, оплакивали Нерона.
Радость добрых людей недолго оставалась нарушенной; тень Нерона все еще приходила пугать их: самозванец взял его имя и приобрел сторонников на Востоке: он походил на этого князя и играл на лире, как он. После нескольких кратковременных успехов он был арестован и предан смерти.
Они опасались неспокойного духа армий и честолюбия вождей. Нимфидий, командир преторианской гвардии, первым поднял знамя восстания. Гордясь властью над солдатами, он открыто претендовал на империю, но так как его сторонников было мало, он погиб во время бунта.
Мацер хотел поднять Африку; прокуратор Гарруциан заколол его. Валенса и Аквиния постигла та же участь, что и Капито, который пытался возвести себя на трон с помощью легионов Германии.
Все эти убийства, совершенные людьми не менее честолюбивыми, чем их жертвы, глубоко опечалили сторонников республиканского правительства и доказали им, что невозможно увидеть возрождение свободы в государстве, где солдаты больше не являются гражданами.
Сенат, просвещенный этими событиями, предпочел скорее отдать себе господина, чем принять его; он провозгласил Гальбу и этим указом успокоил восстание части испанской армии. Германская армия вошла в Галлию, чтобы подавить галльское восстание. Ее предводитель Виргиний Руф хотел договориться с Виндексом, но их войска яростно сражались друг с другом, не слушая приказов: галльская армия была разбита; Виндекс, командовавший ею, в отчаянии покончил с собой. Легионы Германии предложили империю Виргинию; он отказался, ожидая решения народа и сената, и не признавал Гальбу до тех пор, пока этот принц не был провозглашен ими императором.
Армией на Верхнем Рейне командовал Ордеоний, полководец без таланта и характера. Вначале он следовал примеру Виндекса, затем – Виргиния.
Сервий Сульпиций Гальба, знаменитый по происхождению, причислял к своим предкам добродетельного Катула, достойного подражателя и соратника Цицерона и Катона. В юности он проявлял благородные чувства, редкую скромность и блестящую храбрость. Привлеченный к командованию как своими заслугами, так и именем, он успешно вел войны в Африке, Германской империи и Испании. Строгий блюститель дисциплины, простой во вкусах, справедливый в суждениях и экономный в расходах, он казался достойным империи, пока не добился ее. С возрастом его разум ослабел, и он позволил руководить собой фаворитам, злоупотреблявшим его доверием; старость превратила его строгость в суровость, а бережливость – в скупость.
Энтузиазм, который проявляли к нему легионы Испании, остыл; распространился слух о бегстве Нерона, и Гальба в отчаянии был близок к тому, чтобы покончить с собой, как вдруг узнал о трагическом конце тирана и о постановлениях сената и народа в его пользу. Приняв титул цезаря и императорские одежды, он отправился в Рим, но беспокойство, вызванное интригами Нимфидия, восстанием Мацера, притязаниями Капито и нерешительностью германской армии, привело его к мысли, что он должен навести ужас на своих соперников. Его видели с кинжалом на шее до тех пор, пока он не узнал, что его соперники убиты. По пути он изгонял правителей, разрушал города до основания и облагал данью народы, которые слишком медленно признавали его.
Прибыв в Рим, он проявил ту же суровость, приказал войскам флота, из которых были сформированы легионы, вернуться на флот, а за отказ повиноваться заставил их обложить, обложить и уничтожить.
Германская гвардия осталась верна Нерону; их заподозрили в желании возвести на престол Долабеллу; он уволил их. Множество граждан, которых Нерон сослал, были отозваны новым императором. Но они остались недовольны, потому что он не вернул им их имущество, когда вернул им работу. Он заставил Элия, Поликлита, Локуста, Патробуса и Петина, печально известных служителей Нероновых жестокостей, носить по Риму в кандалах. Полагая, что в эпоху коррупции и революции он сможет восстановить бодрость древней дисциплины, он отказал войскам в вознаграждении, которое давали императоры при вступлении в должность, и ответил на их жалобы, что знает, как выбирать солдат, а не как их покупать.
Император уволил нескольких преторианцев, подозреваемых в том, что они хотели расположить к себе Нимфидия. Но больше всего его падение ускорил катастрофический выбор министров. Он безоговорочно доверял Титу Винию, своему лейтенанту в Испании, умелому, смелому, но жадному человеку; Корнелию Лако, капитану преторианцев, гордому, невежественному и трусливому; Марциану Айцелу, надменному и льстивому вольноотпущеннику, который претендовал на высшие саны и хотел прикрыть пурпуром следы своих прежних цепей.
Разница между характером принца и его фаворитов привела к странному противоречию в государственных актах. Все, что Гальба делал сам, казалось достойным уважения; все, что он позволял делать своим фаворитам, дискредитировало его. Его скромные речи в сенате, свобода, которую он допускал в своих обсуждениях, уважение к правам народа, презрение к доносчикам, приветливость к гражданам вызывали всеобщее одобрение, но наглость и скупость его министров вызывали нетерпение: иногда мы видели великих людей, осужденных за незначительные проступки, иногда – настоящих преступников, людей низкой морали и незнатного происхождения, отпущенных на свободу.
Имея похвальные намерения, Гальба не совершил ничего великого и полезного, потому что был мало просвещен. Нерон, блудный без меры, раздавал народу огромные суммы. Его экстравагантная щедрость, по слухам, достигала девяноста миллионов. Гальба без всякого благоразумия приказал вернуть то, что было дано без причины. Комиссия из пятидесяти рыцарей, которой было поручено это дело, выполнила свою миссию со всей строгостью. Этот произвол и фискальная инквизиция посягнули на все состояния: казалось, что все в Риме продается с аукциона; и еще большее недовольство вызвало то, что император, вместо того чтобы применить полученные таким образом деньги на нужды государства, жадно присвоил их себе и оставил только для себя. Продажность комиссаров усилила беспорядки; провинции и столица подверглись жестокому обращению. Дельфы и Олимпия были вынуждены вернуть подарки, полученные от Нерона. Чем больше люди жаловались на эту неуместную суровость, тем больше они обвиняли в слабости одиозных людей. Народ призвал к суду Галотуса и Тигеллина, соучастников и, возможно, исполнителей большинства преступлений Нерона; они расточали свои сокровища фаворитам Гальбы и таким образом покупали себе отпущение грехов.
Эта смесь строгости и коррупции вызвала гнев и презрение в Риме. Недовольство столицы распространилось на провинции; легионы Германии, убежденные, что им следует опасаться мести Гальбы, поскольку они объявили себя последними, кто его поддерживает, восстали против слабого Ордеония Флакка, своего лейтенанта, и предложили империю Вителлию, которого император только что дал им в качестве генерала.
Валенс и Цецина, обремененные долгами, жадные до движения и новизны, ослабив все узы дисциплины, чтобы завоевать расположение солдат, стремились развратить командуемые ими легионы и заставить их принять дело Вителлия, нравы которого обещали друзьям порока нового Нерона.
Император, осведомленный об этих бедах, полагал, что причиной их является только его преклонный возраст, что он рассеет их, выбрав молодого преемника, и тем самым лишит группировки всякой надежды.
Как только о его намерении стало известно, этот выбор разделил двор. Оттон, который первым поддержал Гальбу своим именем, войсками, мечом и состоянием, предъявил сильные претензии на это усыновление. В свою пользу он приводил доводы о своих заслугах, рвении и привязанности к нему преторианских когорт. Виний поддержал его. Против него выступил Лакон, ревнивый к его заслугам и собственным порокам. Все добрые люди боялись, что на престол взойдет один из самых пылких соратников Нерона по разврату.
Гальба, не слушая никого из своих министров и прислушиваясь только к голосу народа, привел в замешательство всех своих фаворитов и объявил, что утверждает своим преемником Луциниана Пизона, человека строгих нравов, чьи добродетели Рим уважал не меньше, чем его происхождение.
Император подозвал его к себе и обратился к нему в таких выражениях: «Если бы Гальба принял Пизона в обычном звании, ему все равно пришлось бы поздравлять себя с введением в свой род потомка Красса и Помпея, а Пизон должен был бы с честью соединить славу своих предков с Сульпицием и Катулом. Сегодня это ваш император, возведенный на трон голосами людей и благосклонностью богов, который, отдавая справедливость вашим достоинствам и руководствуясь только любовью к своей стране, свободно зовет вас на трон, за который наши предки сражались с оружием в руках; он хочет, чтобы вы разделили власть, которой он обязан только своим военным трудам.
Август усыновил Марцелла и Агриппу, своих зятьев, затем своих детей и, наконец, Тиберия, сына своей жены. Этот принц выбрал себе преемника из своей семьи, а я выбрал своего из числа «граждан»: не то чтобы у меня не было дружбы к родителям и товарищам по оружию; но, не приняв империю из честолюбия, я думаю только о благе Рима и предпочитаю тебя не только своей семье, но и твоему старшему брату, который был бы достоин того звания, на которое я тебя возвожу, если бы ты не заслуживал его даже лучше, чем он.
В вашем возрасте мы уже смирились с ошибками молодости. Вы пережили несчастье; благополучие предлагает вам более трудное испытание. Несчастье укрепляет нас, счастье смягчает: я верю, что ваше сердце останется добродетельным; но ваше возвышение изменит возвышение других людей; их дружба сменится преклонением, интригами, корыстью – ядом, уничтожающим всякую настоящую привязанность.
Отныне мы будем обращаться не к вам, а к императору. Принцы находят много льстецов, чтобы поощрять свои страсти, и мало мужественных людей, чтобы напоминать им об их обязанностях.
Если бы эта огромная империя могла обойтись без вождя, я счел бы достойным восстановить республику, но судьба долгое время не позволяла этого сделать: все, что мы должны римскому народу, – это посвятить мои последние дни тому, чтобы сделать правильный выбор, а всю твою жизнь – тому, чтобы оправдать его. При Тиберии, при Кае, при Клавдии Рим стал наследством семьи; теперь он становится свободнее, поскольку мы подаем пример избрания его хозяев. После нас самые добродетельные граждане будут достигать империи путем усыновления: скипетр, обусловленный рождением, зависит от каприза случая; выбор принца, который будет усыновлен, – плод размышлений и общественного мнения, которое его выбирает.
Вспомним судьбу Нерона: потомок длинного рода цезарей, он был свергнут не Виндексом, правителем слабой провинции, и не мной с одним легионом; его свергли с трона распутство, излишества и жестокости. Раз столько древних прав не смогли спасти этого принца, первым осужденного народом, как можем мы, у которых нет других титулов, кроме меча и уважения к немногим добродетелям, избежать зависти?
Однако не тревожьтесь, если два легиона во всей империи все же откажутся подчиниться: я вступил на престол не без опасности; мой преклонный возраст был единственным упреком, который можно было бросить мне; он исчезнет с вашим усыновлением.
Вы всегда будете видеть Нерона, о котором сожалеют нечестивцы; давайте же действовать так, чтобы о нем никогда не сожалели добродетельные люди.
Если я сделал хороший выбор, дальнейшие советы будут бесполезны; ваше правило поведения легко и просто; всегда помните, что вы хвалили или критиковали в поведении предшествовавших вам принцев. В других местах, среди народов, подвластных королям, семья господ управляет народом рабов; здесь же учти, что ты будешь управлять людьми, которые не могут вынести ни полной свободы, ни полного рабства».
Пизон спокойно отнесся к этой речи, говорил об императоре с уважением, а о себе – со скромностью: в его поведении ничего не изменилось; казалось, он скорее заслуживает, чем любит трон. Гальба привел его в лагерь и в немногих словах и с сухостью известил солдат, которые приняли его холодно. Эта древняя суровость была неуместна; малейшая любезность могла бы примирить дух.
Выбор нового цезаря воспламенил Оттона ревностью и гневом. Он видел недовольство войск и надеялся воспользоваться им. Приветливый и знакомый с солдатами, он участвовал в их играх, принимал участие в их интересах, заботился об их семьях и делах, поощрял их распутство и не скрывал от них не только своего желания, но даже потребности в престолонаследии. Обремененный долгами, он должен был погибнуть или царствовать, говорил он, и для него не было разницы, погибнет ли он от рук императора или своих кредиторов. Таково было несчастье того времени, когда, вопреки постановлениям сената и народа, два солдата, завоеванные вольноотпущенником, свергли законно избранного императора и избавились от Римской империи в пользу молодого развратника, который стремился к званию цезаря только для того, чтобы расплатиться с долгами.
Эти два солдата, совращенные Ономастом, слугой Оттона, соблазнили еще нескольких человек, которые смело составили план свержения Гальбы и коронации Оттона. Об их интригах и выступлениях быстро сообщили во дворец. Ничего не могло быть проще, чем пресечь этот заговор в самом зародыше; но Лакон, трусливый офицер и ленивый министр, презрел этот слух и не счел его достойным заботы или даже внимания императора.
Заговорщики назначили 15 января датой исполнения своих планов. Вечером 14-го Оттон, по своему обыкновению, вышел встречать Гальбу, который принял его без подозрений и сердечно обнял. Вместе с императором он присутствовал на жертвоприношении и оставался там до тех пор, пока вольноотпущенник Ономасте не сообщил ему, что его архитектор ждет его дома. Это был условленный сигнал, и он вышел под предлогом осмотра дома, который хотел купить. Когда он прибыл к месту встречи заговорщиков, возле золотой колонны, от которой вели все дороги Италии, то с удивлением увидел вокруг себя всего около тридцати солдат. Однако, слишком далеко продвинувшись, чтобы отступить, и полагаясь на свою дерзость, он заговорил с этим слабым отрядом, напоминая им о скупости Гальбы, о суровости его приказов, о расправе над военно-морским флотом, о невыносимой суровости его дисциплины, об увольнении офицеров, о грабежах его фаворитов: Вы ищете средство от всех этих бед? Оно в ваших руках. Вы уже назвали меня своим принцем, так дайте мне не только титул, но и власть. Пусть тебя не останавливает страх гражданской войны, у Рима есть только одно чувство: он презирает слабоумного старика, который им управляет. Единственная когорта, охраняющая императора, по древнему обычаю, одета в тоги и безоружна; она будет служить не столько для защиты Гальбы, сколько для того, чтобы он не смог сбежать от нас. Между ними и вами будет лишь борьба за то, чтобы поддержать меня».
Заговорщики ответили на его слова громкими восклицаниями; они провозгласили Оттона императором, вложили в руки мечи, запугали окружающую их толпу, прошли сквозь нее, пополняясь по пути новыми сторонниками, которых всегда привлекает смелость и перемены, и повели нового цезаря в лагерь.
Трибун Юлий Марциал стоял в это время на страже: изумление, в которое его повергло такое предприятие, не позволило ему остановить заговорщиков; все преторианские когорты и все солдаты флота поспешили присоединиться к ним: Оттон осыпал их обещаниями и ласками, не находя слишком низких средств, чтобы возвести себя на трон. Все они поклялись ему в верности.
Весть об этом событии достигла дворца, измененная страстями, усиленная страхом или смягченная лестью. Консулы, сенаторы и рыцари бросились на сторону Гальбы, соразмеряя свой пыл и свои слова с различными сообщениями, которые они получали. Гальба неуверенно плыл среди противоположных мнений своих министров. Одни хотели, чтобы он выступил в поход против мятежников и вооружил народ, другие – чтобы он удалился в Капитолий. Однако Пизон томил преторианскую когорту, рассказывая о долгой «карьере славы принца, о величии сената, о правах народа; он напомнил им о пороках и излишествах Оттона: если солдаты, говорил он, презирают законы и хотят распоряжаться троном, они, по крайней мере, не должны выбирать в императоры негодяев и развратников; и если ими движет только интерес, то лучше заслужить награду верностью, чем преступлением.
Полагая, что ему обеспечена дворцовая когорта, он вместе с Цельсом отправился в лагерь, но мятежники отстояли вход и оттеснили их копьями. Однако по Риму пронесся слух, что Оттон только что погиб во время бунта: льстецы поспешили поздравить императора; самые осмотрительные громко осуждали мятежников; самые трусливые – самых пылких. После долгой нерешительности Гальба наконец сел на коня, сопровождаемый своими стражниками; любопытство сопровождало его больше, чем привязанность. Подбежал преторианец Юлий Аттик с окровавленным мечом в руке и крикнул, что он убил Оттона: Гальба, не обращая внимания на древние правила дисциплины, холодно сказал ему: «Кто тебе приказал?» и продолжил свой поход.





