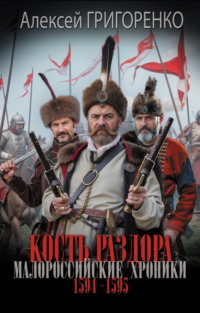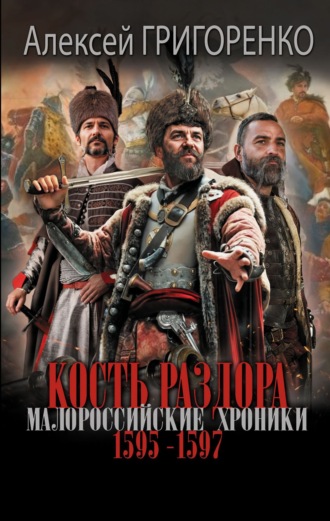
Полная версия
Кость раздора. Малороссийские хроники. 1595-1597 гг
Пришлось опять старосте Струсю под покровом зимней ночи собирать своих женщин – пани Марысю и Элжабету – и в санном обозе отправляться в Луцк, подальше от козаков. Уже будучи под защитой старосты Александра Семашко, пан Ежи-Юрась услыхал такую странную новость, что Лобода, маясь в Баре от безделья, женился на дочери убитого под стенами Брацлава пана Микулашского, который владел грунтами близ Кучманского шляха. Такая вот странность. И никто не мог ему в том воспрепятствовать: пришли в маетность пана Микулашского грабить, приглянулась девица, хотел Лобода ее силой принудить к сожительству, да едва отстояли ее бонны с матерью Малгожатой – не позволям! – домашнее такое шляхетское Liberum veto… Только через костел – только так дамы шляхетные могли насилию воспрепятствовать, – очень даже по-женски, по-польски… Кажется, Агнешкой звали молодую панянку, – пан Ежи-Юрась видел ее несколько раз: приезжали Микулашские в Брацлав по имущественным справам-делам, заходили в замок к нему представляться-приветствовать. Белоголовая девчушка такая и мать – Малгожата, помнится, статная высокая дама, красавица гоноровая… Так и представил себе это событие староста Струсь: усмехнулся лукаво в усы Лобода – через костел? Хорошо! Будь по-вашему!.. Но только венчать нас будут наши попы, в нашей церкви… Да что ему до того? Живет одним днем и знает, чем все это кончится… Знает же!..
Как позволила пани Малгожата дочери пойти под венец со стариком?.. И тут же отвечал староста сам себе: а куда деваться Малгожате той было? Приставили черную пику к высокой белой груди – и благословила Агнешку, агнеца жертвенного, идти под венец с атаманом разбойников… Если не изнасиловали и не изранили ножами пани Малгожату после венчания на брачном пиру защитнички православия от иезуитов и папы Климента, то ей еще повезло, что только лишилась дочери, а не жизни. А юной Агнешке, дочери покойного пана Микулашского, – если бы была такая ныне возможность, – пан Ежи-Юрась сказал бы неутешительное весьма пророчество о том, что недолго ей быть женой и наложницей старика-атамана, но быть ей юной вдовой очень скоро, но и это еще не все: как жена бунтовщика и мятежника она по закону станет банниткой, то есть лишенной всех прав, лишенной защиты державы, имущество ее будет отчуждено в казну, из дома своего – даже из того, в котором родилась несчастливо в эту лихую годину, она будет выгнана, и любой встречный даже не то что сможет делать с ней все, что душа его пожелает, но даже будет обязан ее лишить жизни. Вот что ее ожидает…
Но Господь милосерден и до срока хранит девушку от страшной сей истины-правды. Но все и откроется в срок, сему надлежащий. И что с этим поделаешь? Разве она в чем-то виновна? Пан Микулашский нелепо погиб от пули в таборе под стенами Брацлава, ей – сиротство и скорбь; затем – Лобода со своей неуместной свадьбой, бездельной и глупой, ей – слезы и горе от злой этой судьбины; и после – вдовство и изгнание во тьму, что клубится за границами Речи Посполитой, – куда подастся она? В московские земли? В тогобочную Украину? К цесарю? К волошскому господарю? Да если и не прирежут в степи, если не попадется крымским татарам и не будет продана невольницей в турецкий гарем, если не исчахнет от голода где-то в лесах над Днепром, – как ей жить? Что делать? Землю копать и в наймичках жать спелую рожь?.. Сломана судьба, исковеркана юная жизнь, и мать Малгожата здесь не поможет – дай Бог Малгожате самой остаться в живых. И это тоже – мелкий и незначительный итог – один из тысяч и тысяч – этой войны.
Ведь именно так всегда все и происходит. Человек – мелкопоместный шляхтич, посполитый, осадник, жолнер, женщина, мать, дочь или сын – не дороже разменной монеты. Его не жаль власть предержащим. Им мостят гати через болота собственной неспроможности и бездарности, его дробят в крошку, засыпая ямы на торном шляхе для проезда ясновельможного князя или надменного бритого бискупа, его мясом кормят борзых охотничьих гончих, если кончился корм, а добычи пока еще нет. Сыновья не успевают возмужать и познать женскую ласку и ждущее семени лоно, как в сечах и битвах различных отдают свою жизнь. Сколько смертей видел староста на веку – и своих, и чужих… И нет тому ни края, ни конца.
Что есть история, – думал пан Ежи-Юрась, сидя в чужом доме в луцком посаде в ожидании невесть чего, – в чем ее смысл, или цель, или обетование? Ради чего мы живем? Творим видимое и невидимое, зло и добро? Рождаем детей и тут же отбираем жизнь у тех, кого считаем врагами? И ведь не просто и безлично отбираем то, что даровано самим Богом, но прилагаем к казням гнев, ненависть, нетерпимость, а то и мертвое равнодушие, и даже радость иногда взблескивает в потемках души, когда творишь ты по видимости злодеяние, почитаемое в это мгновение благом или необходимостью. Строим замки, дворцы, ратуши и костелы, оздобляем свои города, – и тут же разрушаем пушечным боем и пожарами такие же замки, жилища, местечки, не разбирая, кто и в чем виноват. Пан Ежи-Юрась чувствовал, знал, как неутешительный некий итог, что, прожив столько лет, он так ничего и не понял в этом мире, в токе этой жизни на просторах Брацлавщины, да и в целом в державе Речи Посполитой. Благие намерения – расширение кордонов, освоение отвоеванных кресов, осадники польского племени, которыми населялись новообретенные оружием пустоши, наведение законности и порядка – все это имело какую-то видимую, но все-таки довольно зыбкую границу, и всегда было весьма просто переступить эту черту, за которой рекомое и мыслимое добро оборачивалось своей противоположностью. Ну вот даже с этим благим и замечательным делом – с соединением церквей – что происходит по сути?.. Благое и чаемое чуть ли не тысячелетие – не забудем же Христовы слова «Да будут все едины» – во что превращается прямо-таки на глазах?
Конечно, не его дело давать оценки какие-то в этом тонком и не касающемся его напрямую вопросе. Дед Якуб, отец и сам пан Ежи-Юрась давным-давно разрешили для себя эту личную проблему вероисповедания. Да и была ли – по сути – она?.. Но загонять посполитых русинов силою в рай, отбирать храмы, запечатывать церкви, калечить и убивать тех, кто не мыслит по-твоему, – от того надо бежать и бежать. Подпанок Хайло, презренный убийца пана Цуровского в заточении под брацлавской ратушей, велебный Кирилл, луцкий епископ, о подвигах которого не ведает разве что патриарх, давший ему благословенную грамоту на полномочное представительство, – да и не ведает потому, что за тридевять земель отсюда влачит свои жалкие дни под турецкой пятой, – а мы-то наслышаны о Кирилловом житии. Что – лапами подобных им негодяев творить Христово слово о толиком деле великом, не подлежащем ведению человеческому?.. Вот и получается, что волки в овечьих шкурах под видом добра – да какого! – режут без милости стадо, достигая вовсе не чаемого веками единства, но своих низких и корыстных целей. Да вот о корысти еще рассуди в себе сам. Ты воин, солдат, и ты знаешь прекрасно, чего достигает победитель в битве, в стычке, в войне. Военное дело – вельми затратное даже по деньгам: мало самого себя снарядить в военное выступление – пара сменных коней в военном уборе – да чтобы непременно поводья были отделаны серебром, – щеголи из молодежи и подковывают боевых лошадей серебряными подковами; дорогое оружие, драгоценные латы чеканного серебра с давленными изображениями из античности греческой на груди, походный шатер со столами, кроватями, стульями, меховыми одеялами и шелковыми простынями, с затейливыми лампами масляными, с бронзовыми треногами и медными котлами; дорогая посуда, иногда золотая, и уж непременно – серебряная (о другой – оловянной или деревянной – и помыслить даже нельзя), запасы старого вина из Угров для отдохновения в кругу боевых товарищей, шкатулка с золотыми дукатами на потребу, – так еще и оршак свой снарядить надобно так же, дабы ничем не уступал другим оршакам – завистливое око все примечает, и злой язык без устали годами будет повествовать о твоей худородности, бедности, скупости…
Не пристало шляхтичу деньги личить-считать, но сколько выходит на круг? (Так в нем говорит иногда черная козацкая кровь – ну, ничего не поделаешь…) Много, очень много затрат. Ну, и корысти берутся в походе… А как же иначе? Одно дело – государева служба и державное делание чести, и дело другое – трофеи войны. На то он и воин, солдат Сигизмунда III Вазы, а прежде еще – великого и незабвенного Стефана Батория и Сигизмунда II Августа, королей польских. И ему – по чину – эти корысти, трофеи, сеча и пролитие крови. Ведь победы – они не всякий раз даруются Богом. Можно весь свой обоз потерять – сколько панов таковых по миру пошло уже, лишившись шатров, дукатов и всего прочего. А кто-то и жизни лишился… И дед его, и отец погибли в сечах с татарами на полуденных рубежах Речи Посполитой. И что еще ожидает его самого?.. Сколько панских кунтушей, гаптованных золотыми узорами, сколько хутр соболей драгоценных видел он на плечах запорожцев… Так что трофеи, надбанки и прочее – это плата за страх, риск и опасность в этих неспокойных временах.
А эти вот – Кирилл, Ипатий, Хайло?.. Кто такие они, что лезут к нам, к польской шляхте, своими русинскими свиными рылами? Не замарав ручонок пухлых своих, прикрываясь оксамитовой рясой и размахивая крестом золотым, того же хотят – с золота есть соловьиные язычки и мальвазией запивать?.. И каков повод измыслили – соединение!.. А папа Климент повелся на то, на пустые эти посулы честолюбцев из польской укрáины, – наивный!.. Хотя… Как на это еще посмотреть. Что он знает, пан Ежи-Юрась, лишенный всего – достатка, чести, достоинства, сидя прежде в Брацлаве, а теперь вот в луцком предместье под защитой старосты Александра Семашко? Все-таки папе из Рима виднее – весь мир лежит у его ног, ну, за малыми исключениями, – и одно из исключений этих – именно русская церковь в землях Речи Посполитой… Ну да… Но и не в русской церкви ведь дело, – пан Ежи-Юрась смутно ощущал некую незавершенность своего предположения, – даже если принять как свершившееся, что Кирилл со клевретами все же приведет свою церковь в полное и беспрекословное подчинение папе, разве Климент VIII остановится и удовлетворится? И что будут делать потом эти сонмы иезуитов, насеянные как сорная сныть на землях былой «державы без вогнищ»? Кадилом махать и по-латыни славить Христа?.. Как бы не так! Эта духовная армия организованнее и сплоченнее любого посполитого рушенья в Речи Посполитой, крепче и надежнее любого – на выбор – надворного войска самых крупных магнатов как в Польше, так и в Литве.
И на востоке – Московское царство…
Вот она, цель, – вдруг понял пан Ежи-Юрась, холодея, – вот зачем все это устраивается под дымовой завесой сладостных речей о воссоединении церквей, о том, что быть «всем едино» и прочем… Ведь сказал папа Климент в какой-то энциклике, – Боже, как я пропустил это мимо ушей, занимаясь сентифолиями-розами и мечтая о геройской моей «Струсиаде» в мирном до поры граде своем: «О мои русины! Через вас я достигну Востока!»
Востока… Вот – цель Климента VIII. Мы ведь – совсем не Восток, если рассмотреть географическую мапу Великого княжества Литовского и Королевства Польского, составленную Вацлавом Городецким еще в 1562 году и виденную им недавно в Варшаве, а Восток – это бесконечная московская земля, покрытая льдами и непроходимыми дебрями, простирающаяся до самого Тихого океана, в совершенно непредставимую далечину, – и подчинив себе – по тайному замыслу – духовно эти пространства, папский престол будет обладать всем миром… Вот – ставка в этой крупной игре, – вот это… Мы же – Речь Посполитая, русская церковь, поспольство, не ведающее ни о чем таковом, – есть только мелкие разменные шеляги в достижении истинных целей… И это я ведь только предположил, что русины – козаки, посполитые и шляхта с князем Острожским во главе – как бараны поплетутся за епископами своими в новое «соединенное» стойло или в овчарню, где уже ожидают их с ножницами стригущие шкуру до мяса. Но они же – они же не таковы, – это все знают… И вот уже началась эта смута, пролилась уже кровь, горят города, гибнут люди, в державе разброд и шатания – и королевский ответ (которого я так чаю в отмщение за Брацлав) не заставит себя ждать, – иначе зачем Господь дал власть королю Сигизмунду? Боже, мне так не хотелось новой войны, тем более такой – внутренней, с такими же подданными королевскими, как сам я, – без их деятельного участия не обходилась ведь ни одна военная кампания. Турки, татары, волохи семиградские, московиты – всем ведомы козацкие сабли и пики. Мы же всегда были вместе, в одном ряду боевом – вместе, без всяких этих епископов – были едины, будучи разными по вере, мы – подданные Речи Посполитой… И что же?.. Что с нами произошло? Благое по видимости оказалось сущим злом. Уния эта стала костью раздора – залогом и началом гражданской войны. И чем еще кончится эта война… Чем она кончится? Если бы только гибелью нас, нашего поколения, и поколения, что следует за нами. Но может погибнуть держава, исчезнуть, словно примара – словно не было ничего…
Пан Ежи-Юрась усилием остановил это растекание мысли по древу. Вот так всегда происходит: поставишь коренной жизни вопрос – а зачем это все? – в чем смысл истории? – смысл человеческой жизни? – и додумаешься до полного бреда: да и как, скажите на милость, может превратиться в ничто самое крупное, самое сильное государство в Европе заканчивающегося XVI столетия, его Речь Посполитая? Что по сравнению с ней другие европейские карликовые государства, изнемогающие от внутренних раздоров и религиозных войн, воюющих веками друг с другом за клочок земли, за пару горных цепей, за виноградник какой-нибудь?.. «Велика Артемида Эфесская!» – кричали полдня люди на форуме при апостоле Павле, – во сколь крат крупнее, значительнее и сильнее его, старосты Струся, держава – его Речь Посполитая!.. Слава же ей и прослава на века!.. – запеклось в душе у него.
(Необходимое примечание автора. Как ни парадоксально, но староста Струсь в стесненных своих обстоятельствах практически пророчествовал об исторической судьбе Речи Посполитой. Религиозная смута, начало которой по воле судьбы он застал в конце XVI столетия и в которой в меру своих сил активно участвовал, причиной которой была насильственная, – государственная по сути, – попытка «соединения церквей», сыграла злую роль в исторической судьбе этого государства. Через несколько поколений, – а именно ровно через двести лет, после череды войн, подоплекой и крупным конфликтным сегментом в которых опять-таки выступал религиозный фактор, а именно – неукоснительное преследование из века в век после Брестской унии 1596 года православных, после Третьего раздела Польши в 1795 году Речь Посполитая прекратила свое существование, прежде еще – в 1648–1654 годах – в результате козацких войн лишившись «золотого яблока» – Руси-Украины. Этот политический крах, называемый по-польски Rozbiory Rzeczpospolitej, – напоминаю читателю, – был разделом территории польско-литовского государства (Речи Посполитой) между Прусским королевством, Российской империей и Австрийской монархией в конце XVIII века (1772–1795 годы). То есть от самого крупного и самого значительного в тогдашней Европе государства ничего не осталось… Таковы были реальные плоды внутренней политики, основы которой заложил король Сигизмунд III. Не забудем и о его деятельном и во многом решающем участии в скорых уже событиях Смутного времени в Москве, когда, собственно, уже российская государственность, после пресечения династии Рюриковичей, стояла на грани полного краха и исчезновения, а польский королевич Владислав, сын Сигизмунда, был даже провозглашен московским царем, только на престол вступить не успел… Политическое небытие Речи Посполитой – великого и могучего государства – и утрата государственного сувернитета через два века, в 1795 году были своего рода расплатой за политический и религиозный авантюризм короля Сигизмунда. И только в результате новой смуты, превзошедшей все, что только было в мировой истории по накалу борьбы и по количеству жертв, – Октябрьского переворота 1917 года в Российской империи, Польша – не без военных усилий – смогла восстановить свою государственность в 1918 году. В территориально усеченном виде восстановила, конечно, – а ведь только представьте себе: в XVII веке восточная государственная граница Речи Посполитой проходила… под Тулой, в 200-х километрах от Москвы!.. 123 года внегосударственного существования, три крупных и жестоко подавленных национальных восстания – 1794, 1831 и 1863 годов, не считая бесчисленных мелких, польские легионы в наполеоновской армии в 1812 году, массовые депортации польских повстанцев во внутренние губернии Российской империи, в Сибирь и на Дальний Восток, жертвы войны с Красной Россией – и это я не поминаю погибших в многочисленных восстаниях православного народа, козацких войнах XVII столетия, жертв гайдамаков, жертв Колиивщины, на знаменах которых всегда присутствовало требование скасовать унию, источник и начало зла, – и я вовсе умалчиваю о геноциде польского населения от рук Украинской Повстанческой армии Степана Бандеры и украинских националистов Шухевича во время Второй мировой войны, когда без разбора и без пощады польские села вырезались под ноль, включая младенцев, и с невиданным изуверством, чтобы страху нагнать на века, – кто в состоянии исчислить в цифрах все это? – такова – по сути – была историческая расплата за близорукую государственную политику польских королей и за религиозный фанатизм, предполагающий человеческими руками сотворить то, что по силам одному только Богу.)
* * *Время, в котором жила его Русь-Украина, будто бы сжалось до пределов немыслимых: осень, отшелестев золотым палым листом, сменилась глубокоснежной зимой, ослепительно чистой, (снегом, но не человеческими душами), зима же обернулась на слякотную, вологую весну, зачернели ребра проталин на покойных снулых полях, возвысилось небо и загустело особенной синевой, – и душа, следуя за сменой времен года, звенела отзывчиво, мягко. И все-таки, отвлекаясь от обманчивого затишья и глядя в далечину смутно им предлежащего, Павло думал, что не проходит в нем ощущение, будто он прожил чуть ли не целую жизнь, а на деле после захвата Брацлава у старосты Струся минул даже не полный год – исчислением же 1595-м.
Что было в нем, в этом истекшем году?
Продолжалась вялая, не объявленная война всех против всех. К зиме они соединились с Лободой в Баре: в мире, в котором они пребывали, в какой уж раз затевалась большая война против турок. В некую коалицию с панами Речи Посполитой вошли германский император, валашские и молдавские господари, решившие наконец-то сбросить вековечное османское ярмо, и семиградский князь Сигизмунд Баторий, младший брат почившего короля Стефана. Инициатива союза исходила от императора Рудольфа II, показавшего себя недюжинным политиком и дипломатом. Им были задействованы все возможные средства. Планировалось привлечь не только папу Римского и Венецию, но и Москву, Валахию и даже Персию. Пограничные столкновения с турками императорских войск происходили повсеместно, и неожиданная победа германцев над отрядом наместника Боснии Гассаном, в результате которой турки потеряли 1800 человек убитыми, немало артиллерии, а главное – двух сыновей султана, только ускорила начало большой войны. Косвенным было и участие в этой большой замятне и Московской Руси. До 1594 года императорский посол Николай Варкоч трижды приезжал в Москву и бил челом царю Федору Иоанновичу и Борису Годунову о воспомоществовании. И вот цель была наконец-то достигнута. Вот что сообщают исторические хроники об этом деле:
«В апреле 1595 года отправлены были к цесарю с казною на вспоможение против турского думный дворянин Вельяминов и дьяк Власьев; они повезли соболей, куниц, лисиц, белки, бобров, волков, кож лосиных на 44 720 рублей. Приехавши в Прагу, где жил Рудольф, Вельяминов и Власьев потребовали, чтоб им указали место, где разложить меха. Им дали у цесаря на дворе двадцать палат, где они разложили соболей, куниц, лисиц, бобров и волков налицо, а белку в коробьях. Когда все было изготовлено, сам император с ближними людьми пришел смотреть посылку, государеву вспоможенью обрадовался и удивлялся, как такая великая казна собрана? Говорил, что прежние цесари и советники их никогда такой большой казны, таких дорогих соболей и лисиц не видывали, и расспрашивал послов, где такие звери водятся, в каком государстве? Послы отвечали, что все эти звери водятся в государевом государстве, в Конде и Печоре, в Угре и в Сибирском царстве, близ Оби реки великой, от Москвы больше 5000 верст. На другой день цесаревы советники присылали к послам с просьбою, чтоб государевы собольники положили цену присылке, как ее продать. Послы отказали: „Мы присланы к цесарскому величеству с дружелюбным делом, с государевою помощию, а не для того, чтоб оценивать государеву казну, оценивать мы не привыкли и не знаем; а собольники присланы с нами для переправки, ценить они такой дорогой рухляди не умеют, такими товарами не торгуют“. После сказывали послам, что цесарь велел оценить присылку пражским купцам, и те оценили ее в 400 000 рублей, а трем сортам лучших соболей цены положить не умели по их дороговизне».
В ином летописном своде приведено и количество мягкой рухляди: 40 360 соболей, 20 760 куниц, 120 черных лисиц, 337 235 белок и 3000 бобров, ценою на 44 тысячи московских тогдашних рублей – богемские евреи-оценщики оценили меха из Московии в 8 бочек золота.
Но рассказ об участии Москвы в делах Рудольфа II закончить придется не на радостной ноте:
«Но пышность и ласки не произвели ничего важного. Когда австрийский вельможа, приступив к главному делу, объявил, что Рудольф еще ждет от нас услуг дальнейших; что мы должны препятствовать впадениям хана в Венгрию и миру шаха с султаном; должны и впредь помогать казною императору, в срочное время, в определенном количестве, золотом или серебром, а не мехами, коих он не может выгодно продавать в Европе: тогда бояре сказали решительно, что Феодор без взаимного, письменного обязательства Австрии не намерен расточать для нее сокровищ России; что посланник государев, Исленьев, остановлен в Константинополе за наше вспоможение Рудольфу казною; что мы всегда обуздываем хана и давно бы утвердили союз христианской Европы с Персиею, если бы император не манил нас пустыми обещаниями»[11].
О том и толковал им с Лободой в Барском замке Станислав Хлопицкий, посланец императора Рудольфа II. Хлопицкий тот был весьма непростым человеком. Будучи природным польским дворянином, при Стефане Батории он был коморником, – невеликая должность для беспоместного шляхтича, но все-таки – должность. Затем, презрев шляхетские привилегии, перебрался он в Запорожье, преломив круто судьбу, перешел в православие и через несколько лет пребывания на островах, после ряда успешных походов на Крым и прочих воинских приключений, был даже избран полковником запорожцами, и, вероятно, вполне по заслугам. С началом нынешних смутных времен Станислав Хлопицкий, по своей воле или же будучи посланным Кошем, – тут уже нить событийная у Павла несколько была затуманена – ушел в земли Священной Римской империи к Рудольфу, которому, как эрцгерцогу Австрии, принадлежали совокупно чешский и венгерский престолы, – и предложил императору козацкую саблю. Побывал тот Хлопицкий и на Москве с такими же предложениями, предлагая великому князю и царю московскому Федору Иоанновичу и шурину его Борису Годунову помощь от запорожцев. Долго ли раздумывал император Рудольф над предложениями Станислава Хлопицкого, неведомо, но тут подоспела войсковая угроза от турок-османов – несметные полчища их готовились к ежегодному вторжению в Угры, и император развязал кошель: Хлопицкий привез от Рудольфа 8000 червонцев и просьбу немедленно выступать на Дунай, к турецким владениям. С Хлопицким от императора прибыл и некий Эрих Лясота, облаченный в невиданный в этих краях потертый, но все еще довольно щегольский испанский камзол и не расстававшийся с письмовником, куда он все время что-то записывал.
Сперва барские козаки приняли его за шпиона и даже хотели убить по своей простоте, но здраво затем рассудили, что настоящий шпион не станет выряжаться павлином в заморское платье и тем более на виду у всех вести свои записи, – дозорца должен быть совсем без лица, быть серой мышью, не отличаться от окружающих вовсе ничем, сливаться с небом, с лесом, с травой. Впрочем, преждереченный Лясота быстро для себя уяснил вековечную враждебность козаков к письменной справе, к записанным фундушам и к каким-либо документам и потому скоро начал таиться с письмом, корябать в письмовнике по ночам при свете масляного каганца. Да и что там можно было писать, – удивлялся временами Павло, – ведь и все так понятно, лежит на ладони, все просто предельно… Но да Бог с этим иностранцем, – пусть живет по обычаю собственному, лишь бы нам не мешал. Прежде Бара эти посланники императора посетили уже Запорожье и привезли оттуда известие, что кош готов начинать поход против турок. Там же оставлена была ими императорская казна. Станислав Хлопицкий между тем без устали расписывал преимущества этого похода, его некую легкость и доступность поживы: толиким объединенным силам без бою покорится любая турецкая крепость в Валахии или в Молдавии – стоит только выйти на виду у защитников на открытое место и навести страху безбрежными войсковыми рядами… А там – только успевай добычу делить… Да и червонцы эти… С другой стороны, а чем еще было заниматься козакам в том году?.. Трощить Луцк, Винницу, Львов?.. Да это, если Бог даст еще времени жизни, не денется никуда, а вот политическая и военная замятня в сопредельных державах – это случай почти что счастливый…