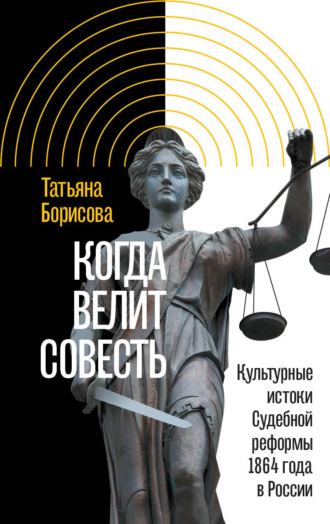
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
…делайте, как я, батюшка Алексей Александрович, оно и для совести-то спокойнее, ей Богу! Ведь, по правде сказать, что толку, что вы прочтете приговор или нет? дела же вы все-таки читать не станете? (Курсив мой. – Т. Б.)271
«Добродушный» призыв уклоняться от решений, чтобы совести было «спокойнее», – мастерски переданная Аксаковым боль российского правосудия. Извращенное представление о совести судейских, которое автор хотел продемонстрировать публике, было поистине ошеломляющим. Чтобы представить все лицемерие недостойных судей, он вкладывал в уста молодого Жабина пафосный протест: дескать, так может пострадать правосудие. На это Посошков доводил до крайности доводы своего знаменитого прототипа, говоря, что правосудие само по себе, а уголовная палата – сама по себе. По этой логике помещик может своей волей судить своих крестьян, ведь от порядка в поместье зависит благосостояние помещика. Они – первая забота помещиков. В государственном же суде справедливость – дело корпоративное:
…а где дело-то поважнее, там и секретарь смотрит в оба! Ведь коли нас станут судить, так и он не отвертится… Да и то вы в расчет возьмите, ведь ваши решения просматривает Прокурор и Губернатор; за неправое решение кто отвечает? Не мы одни, и они также… У нас оттого и заведение такое, коли Прокурору что в решении не нравится, или Губернатору, так мы домашним образом и переправляем дело. Что его в Сенат-то таскать! Зато уж если все промахнемся, или дело решим криво, так уж все молчок, друг друга не выдадим, все шито да крыто, дело-то ведь общее, батюшка Алексей Александрович272.
В конце опытный судебный заседатель Семен Иванович подчеркивал буквальное понимание богоустроенного порядка, радикально заостряя воззрения реального Посошкова:
все (вздыхая) Богом держится. …Нам за нижними инстанциями, да за губернатором, да за прокурором, да за секретарем знающим хорошо жить, ей-Богу, хорошо!273
Жабин, который более других судей говорил по-французски и вообще мнил себя человеком цивилизованным, в итоге согласился с Посошковым: нужно жить со всеми, как принято, – «по-приятельски, потому что все под Богом ходим»274.
Тем приятнее заседателям было обнаружить дворянскую солидарность и принципиальную позицию по делу Жомова, в котором все судьи от дворянства выступили однозначно против доводов секретаря. Тот разъяснял им, что по закону Жомов может быть признан виновным в разных преступлениях, если суд примет в качестве доказательств против него свидетельства его крепостных. Сама идея учесть такие свидетельства возмутила всех судей, кроме судьи от купечества, который в обсуждении не участвовал.
В итоге этого обсуждения недавно разглагольствовавший о высокой миссии правосудия Жабин с тем же пафосом напоминал коллегам, что суд является правительственной властью в губернии и «в видах правительства поддерживать власть помещика и звание дворянина»275. Поэтому обвинить Жомова означало бы противоречить политике правительства. По сути, восторжествовало практическое понимание корпоративного правосудия, в котором дворянские интересы помещиков Дракиных и Расплюевых защищали дворяне на служебных должностях. При этом наибольшее возмущение Аксакова вызывали лицемерные суждения заседателей о богоугодном порядке, учрежденном правительством «по совести», когда начальству всегда «виднее».
При таком понимании судьями своей роли приговоры были канцелярским делом, искусством правильного составления бумаг. Посулы и подарки за нужные решения «по-приятельски» тоже не были редкостью и, как пишет историк Д. В. Тимофеев, часто привлекали на выборные должности соответствующих представителей дворянства, заставляя других, достойных, уклоняться от таких должностей276.
Несмотря на то что Аксаков не хотел служить и отвергал увещевания старшего брата-правоведа Григория дождаться возможности изменить ситуацию, со службы он ушел не по своему желанию. Его принудили к увольнению те самые доносы, которые он так горячо приветствовал в своем дипломном сочинении.
Расставание со службой
Доносы стали естественным следствием той самостоятельной позиции, которую Аксаков занял в Калуге во время своей почти двухлетней службы товарищем председателя Калужской палаты Уголовного суда. Откровенная переписка Аксакова с родными о его судейских буднях позволяет увидеть, как он выполнял требования закона в реальной жизни. В отличие от дворянского заседателя Посошкова, для Аксакова правосудие было не умиротворение, но справедливость. Справедливость же часто подразумевала конфликт интересов.
С большим жаром судья Аксаков описывал родным свой конфликт с депутатом-священником277. Без депутатов по закону нельзя было решать дела особых корпораций – военной, флотской и церковной. В деле о порядке возмещения ущерба от кражи церковного имущества депутат отказался принять точку зрения Аксакова. Смысл этого спора Аксаков подробно разъяснял родным.
Он писал, что закон не давал никакого алгоритма действия, если не было подозреваемых в краже. Однако существовала практика, при которой по суду денежное взыскание по цене похищенного «налагалось безо всякого закона» на церковного сторожа. Ему вменялась вина за упущение в охране церкви. Так как обычно на эту работу шли старики, отставные солдаты и «люди самые бедные», они не могли возместить убытки из своих средств. Им присуждались казенные работы, «долгими годами» которых ущерб можно было возместить. Аксаков находил подобную практику совершенно «нелепой».
С юридической точки зрения, за кражу должен был отвечать виновный в краже, тогда как нерадивый сторож должен был отвечать за свою оплошность, если, конечно, в его контракте не были прописаны условия возмещения возможного убытка. Но такого контракта с церковными сторожами никто не заключал. Поэтому Аксаков не без гордости писал о своем кардинальном решении:
Всем подобным делам я дал другое направление278, мнение нижних инстанций уничтожил и написал, чтоб сторожей от взысканий освободили. По этим делам должен присутствовать депутат с духовной стороны, священник какой-нибудь. Является он в середу и говорит, что не может подписать нашего решения, что церковь не удовлетворяется, не соблюдены ее интересы, что таких решений прежде никогда не бывало и пр. Я отвечал ему, что не отступлю ни пол запятой, что отныне, покуда я здесь, в палате, других решений и не будет…279
Далее Аксаков объяснял родным, что пытался убедить священника в том, что «выжимать последнюю каплю из старика не по-христиански», но
депутат подал мнение, с которым, конечно, палата не согласилась и которое он теперь представил архиерею, а сей полезет в Синод, откуда, вероятно, придет скоро закон о соблюдении церковного интереса как казенного!280
Гордость Аксакова по поводу своего принципиального неприятия позиции депутата показательна. Аксаков-судья был убежден в своей единоличной правоте, с которой «конечно» согласна палата. Его позиция теперь принципиально отличалась от той, что он высказывал как ревизор, отмечая, что провинциальные судьи незаконно не учитывали мнения депутатов. Также можно отметить, что пафос принципиального судьи, решающего дело в отсутствие закона, контрастирует с тем, каким выпускник-правовед видел правильное разрешение такой ситуации.
Как мы помним из начала главы, всего несколько лет назад в своем дипломном сочинении Аксаков предписывал суду в случае неясности в законах обращаться к Верховной власти (через вышестоящие инстанции). Теперь, к его большому возмущению, именно это и делал депутат-священник, намереваясь через Синод получить разъяснения Верховной власти и защиту интересов церкви. Судебная же палата никуда не обращалась, удовлетворившись уверенностью столичного правоведа Аксакова в справедливости его решения. Вообще, кажется, Аксаков-судья совершенно забыл, как в своем дипломном сочинении порицал опасный субъективизм судьи. В том же письме от 15 февраля 1846 года, рассказав о промежуточной победе над депутатом от духовенства, Аксаков сообщал родным о трениях с прокурором, который
надоел своими пустыми и подьяческими протестами… Я сам пишу ответы, довольно эффектные и резкие, где вывожу на чистую воду, без подьяческих темных фраз, всю нелепость его замечаний. …Прокурор покуда замолк, но взял копии с моих ответов, вероятно, для отсылки к министру, у которого это существо департаментского происхождения на отличном счету. Да черт с ними!281
Ощущая собственное превосходство над прокурором, Аксаков подчеркивал, что тот лишь жалкий чиновник, соединяя в подобной оценке два негативных образа судебного «крючка»: старый образ пронырливого подьячего дополнялся новым – «существо департаментского происхождения». Отметим, что при этом Аксаков с его «эффектными ответами» на протесты прокурора сам начал играть роль судьи так, как это предписывал Гоголь в своих рекомендациях актерам для постановки «Ревизора»:
Судья – человек меньше грешный во взятках; он даже не охотник творить неправду… Он занят собой и умом своим, и безбожник только потому, что на этом поприще есть простор ему выказать себя. Для него всякое событие, даже и то, которое навело страх для других, есть находка, потому что дает пищу его догадкам и соображениям, которыми он доволен, как артист своим трудом. Это самоуслажденье должно выражаться на лице актера. Он говорит и в то же время смотрит, какой эффект производят на других его слова. Он ищет выражений282.
Представляется, что слова Гоголя о подобном типе судьи отчасти применимы к Аксакову. Однако «выражений» своей смелости и правды он искал не только в работе, но и в своей страсти – сочинительстве. С 1845 года Иван Сергеевич выступал в печати со стихотворными произведениями, и позиция смело творящего литератора возвышала его над остальными чиновниками.
Но перед кем красовался судья Аксаков? Наверное, перед теми, кого он с удовольствием посылал к черту, завершая свой рассказ о конфликте с прокурором: «Да черт с ними!» «Они» – это конкретные лица: священники и прокурор, воплощавшие «путы и сети» сословных, корпоративных связей и интересов калужского общества283. Эти «путы» были частью имперского порядка, в котором закон действовал в той мере, в которой это было угодно местным властям и тем, кто осуществлял проверку их деятельности. Горделивый и «эффектный» стиль Аксакова, как он сам писал о нем, им был не нужен.
В марте 1849 года он был арестован Третьим отделением и несколько дней провел под арестом284. Ему было приказано ответить на двенадцать вопросов, которые в основном касались разных высказываний Аксакова в частной переписке, позволявших заподозрить его в «неблагонадежности». Сам термин «благонадежность» появился при Екатерине, означая в том числе требование соотносить свои действия с благом для государства285. Но в николаевское время, как обращает внимание Виктория Фреде, чиновники Третьего отделения считали неблагонадежными тех дворян, которые не исповедовались и не причащались, то есть пренебрегали своим долгом служения Богу286. Такие дворяне как будто ставили свое «внутреннее убеждение» выше закона небесного, что потенциально позволяло им отойти от обязанности подчиняться воле императора – по велению Бога – не за страх, а за совесть. Поэтому подозрительное отношение к ним, как к предрасположенным к нарушению законов, вполне объяснимо. Аксаков же явно позволял себе возвышать свою совесть над авторитетом законов, смело толкуя их смысл не из личного интереса, а из соображений высшей справедливости, как мы видели в его споре с церковным депутатом.
Поэма о беглом крестьянине «Бродяга», которую Аксаков читал в литературных салонах и своим знакомым, также была весьма подозрительна, поскольку выглядела как воспевание недозволенного поведения. Третье отделение просило Аксакова прояснить два вопроса: о смысле, который он хотел в нее вложить, и почему ее героем является беглый крестьянин. Аксаков отвечал, что за основу своего творчества он брал знания, почерпнутые из своей службы по уголовным делам:
оттого, наконец, что этот тип мне как служившему столько лет по уголовной части хорошо знаком. Крестьянин, отправляющийся бродить вследствие какого-то безотчетного влечения ко всему широкому пространству русского царства (где есть где разгуляться!), потом наскучивший этим и добровольно являющийся в суд – вот герой моей поэмы287.
Прямые ответы Аксакова и благостная картина беглого человека, добровольно сдающегося суду, вызвали положительную оценку Николая I. Он дал резолюцию главе Третьего отделения отпустить арестованного. Тем не менее Аксаков был оставлен под негласным наблюдением.
После этого в 1850 году как чиновник особых поручений при Министерстве внутренних дел Аксаков прибыл на службу в Ярославль, где проводил ревизию и по поручению начальства изучал деятельность местных раскольников, но и оттуда последовал донос в Третье отделение. Враги-чиновники воспользовались именно творчеством ревизора-правоведа для сведения счетов. Осенью 1850 года ярославский военный губернатор А. П. Бутурлин снова донес Третьему отделению, что Аксаков читает в обществе свою поэму противозаконного содержания под названием «Бродяга», о которой он уже давал объяснения. Оттуда донос был направлен министру внутренних дел графу Л. А. Перовскому, который затребовал от Аксакова текст поэмы.
Ознакомившись с текстом, министр не нашел в нем ничего противозаконного, но рекомендовал Аксакову воздержаться от творчества: «…желательно, чтобы Вы, оставаясь на службе, прекратили авторские труды»288. Аксаков был оскорблен и 5 февраля из Ярославля ответил графу Л. А. Перовскому так же «свободно и смело», как он судил в Калуге:
Никто никогда не мог и не может упрекнуть меня в лености или в нерадивом исполнении своего долга, потому что к деятельному служению побуждаюсь я ответственностью – не перед начальством моим, – а перед моею собственною совестью289.
То, что Аксаков ставил ответственность перед своей совестью выше воли начальника, было признано дерзостью, а сам тон письма был найден неприличным. Аксаков подал прошение об отставке, которое было удовлетворено. В бумагах Аксакова сохранилось письмо Перовскому, в котором Аксаков признавал «по совести», что был резок с министром, но настаивал на «праве говорить правду»:
Я хочу иметь в службе возможность сохранить под чиновническим мундиром человека честного (в обширном смысле этого слова); хочу иметь начальника, способного понять и уважать это требование (а потому и обращаюсь к Вам); хочу пользоваться правом говорить правду, без лести, разумеется, но и без резкости и запальчивости (в чем, по совести, не могу не сознавать себя виновным); желаю, наконец, иметь средства существования не по званию помещика290.
Аксаков как типичный правовед
Судьба Аксакова-правоведа определенно отражает ту моральную миссию, которую желали принять на себя молодые образованные дворяне. Они хотели служить по закону и по велению совести одновременно. На этом пути Аксаков, представитель известного дворянского семейства, мог продвинуться гораздо дальше, чем бедный выпускник университета, судебный секретарь-сирота, которого он изобразил в своей пьесе. Намерение соединить закон и совесть в службе чиновника выпускник-правовед Аксаков провозглашал уже в своем дипломном сочинении. Ставя задачи «общественной справедливости» выше имеющегося закона, он еще в юные годы признавал приоритет морали над правом, если совесть требовала осудить то, что закон не считал преступным. «Служение правде» правоведов придало силы новому важному дискурсу морализма в обсуждении суда и законов, который раньше был известен только в литературе, но теперь стал проникать в правоведение и судопроизводство.
Смело выступая против рутинных корпоративных порядков в калужском суде, Аксаков являл собою положительный «тип правоведа», в начале 1850‑х годов уже известный публике. Так, библиофил Г. Н. Геннади в 1854 году писал в своем дневнике об одном из героев «Марева» Писемского, воплощавшем «тип правоведа – бесстрашного, каких много нынче служит в провинции»291.
Однако быстрое разочарование в законе, который не создавал преград несправедливым и коррумпированным чиновникам, заставило Аксакова поставить свою совесть выше закона. Подобные трансформации происходили с большинством его товарищей-правоведов. Возможно, поэтому в речах выдающихся выпускников Училища правоведения на его первом юбилейном вечере в 1860 году никто не упоминал понятий «право» или «закон», но, как уже отмечалось в первой главе, все фокусировались на борьбе с неправдой как главном деле правоведов.
Особый статус правоведов и других выпускников привилегированных императорских училищ позволял им действовать «эффектно» и при этом пользоваться протекцией товарищей в столице и не только. Однако постепенно и отрицательные стороны щеголеватых карьеристов-правоведов тоже стали восприниматься как типические. В «Петербургских трущобах», чрезвычайно популярном романе Всеволода Крестовского, печатавшемся в 1861–1862 годах, отмечены такие характерные черты «лицеистов и правоведов»:
тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лицея и правоведения (это не то, что университетский отпечаток), который, не сглаживаясь «по гроб жизни», всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно-либеральном тоне о self-governement и сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и новом изречении, bon-mot Петра Александровича292.
Крестовский подчеркивал, что именно статус правоведов, как и выпускников других привилегированных училищ, становился пропуском в высшую касту чиновников. При этом сама миссия Училища начала терять свою новизну, опускаясь до пресловутой суетливой новизны двора, где менялось все, кроме тщеславия и порока. Думается, что фиксируемая в приведенном типическом описании пустота правоведов при их видимом блеске была отражением ставшей популярной сразу после смерти Николая I метафоры «лжи и призрачности» николаевского порядка, опорой которого призваны были стать правоведы и политическая полиция Третьего отделения.
Насколько уникальным был опыт Аксакова? Можем ли мы видеть в нем частное проявление общей тенденции этической критики правосудия в России? Важно, что сам Аксаков при всей своей творческой индивидуальности и при своем стремлении выступать «эффектно» представлял свои этические требования к действительности как особенность времени:
В нынешнее царствование во многих сердцах пробудились угрызения совести. Спрашивали себя: не виноваты ли мы перед русским народом, старались воскресить в себе русского человека293.
В долгосрочной перспективе борьбу Аксакова за законность и справедливость правосудия нужно рассматривать как промежуточную стадию между дворянским и разночинным этапами критики системы юристами. (Более подробно о них пойдет речь в пятой главе.) Представитель старшего поколения М. А. Дмитриев был апологетом дворянского превосходства в службе по чести294. Аксаков, напротив, мыслил себя не исключительно дворянином, но «русским человеком». Осознавая свои привилегии – прежде всего как сына помещика с сотнями крестьянских, – Аксаков действовал в соответствии со своеобразным этическим императивом, который, по его мнению, мог изменить Россию. Эти настроения присутствовали уже в 1810‑х – начале 1820‑х годов в легальной деятельности членов тайных обществ, стремившихся служить максимально справедливо на государственной службе, в том числе и в судах295. С этой точки зрения Аксаков развивал известный еще поколению его отца конфликт устремлений совести и реалий чиновной службы. Сергей Тимофеевич в назидание детям оставил в семейном альбоме стихотворение «Стансы», превозносящее нравственный выбор его автора:
Спокоен я в душе моей,К тому не надобно искусства;Довольно внутреннего чувства,Сознанья совести моей.Моих поступков правотыНе запятнает власть земная,И честь моя, хоругвь святая,Сияет блеском чистоты!296Однако в реальности самому С. Т. Аксакову, как и любому другому чиновнику, не всегда удавалось соответствовать высоким идеалам. Гораздо большую свободу собственным действиям и побуждению к действию других давала литература, и Аксаков-старший, а затем и его сыновья, Константин и Иван, много и с удовольствием писали.
Друг С. Т. Аксакова Н. В. Гоголь, тонко чувствовавший нерв совести своего времени, радикально заострил его в «Развязке „Ревизора“», написанной в 1846 году. Драматург хотел, чтобы эту развязку играли в самом конце пьесы, чтобы у зрителей осталось четкое понимание, какую мораль они должны вынести297. В сцене развязки публика должна была уяснить, что в пьесе ей был представлен не уездный город, а город души каждого, в котором нерадивые чиновники – это человеческие страсти, лжеревизор Хлестаков – ложная светская совесть, тогда как настоящий ревизор – совесть карающая или суд Божий над человеческими пороками. Друзья Гоголя, в том числе и С. Т. Аксаков, с которыми он поделился своим замыслом развязки-разъяснения, посчитали, что публика не поймет эту «проповедь» с театральных подмостков298.
Если морализаторские амбиции Гоголя, его настоятельно-назидательный призыв помнить о Страшном суде и жить по совести представлялись чересчур прямыми, то «Судебные сцены» Аксакова, ставя, по сути, ту же задачу, решали ее с меньшей назидательностью. Реалистичность и документальность пьесы Аксакова также обличали «светскую совесть». Вполне приличные и привычные ее проявления были показаны И. С. Аксаковым как бессовестные по существу. Мириться с ними, как это делал его отец, уже не представлялось возможным. Вместе с Оболенским и другими правоведами он выступал за отстаивание правды и справедливости «общих дел», которые должны превалировать над частными выгодами, прикрытыми корпоративными интересами.
Именно поэтому Аксаков-судья в Калуге разоблачал сословный интерес церковного депутата как несправедливый и не брал его в расчет в своем решении дела. Точно так же в своей пьесе он обнажал узаконенные в приговорах суда сословные интересы дворян беспрепятственно и даже демонстративно властвовать над своими крестьянами и прислугой. Борясь за справедливые решения, Аксаков первоначально стремился привлечь на свою сторону лишь сослуживцев и родных. Закончив с чиновничьей карьерой, он продолжил свою борьбу за «царство Правды», призывая теперь в союзники публику и рассчитывая на ее поддержку.
В этом взгляды Аксакова отличались от узкосословных амбиций поколения Дмитриева, которое видело способность действовать честно и служить нелицемерно по закону только в старинном и обеспеченном дворянстве. Для этого поколения только такие дворяне были, выражаясь словами русского посла в Англии начала XIX века С. Р. Воронцова, особыми людьми чести «среди нации… невежественной и развращенной»299. Аксаков же использовал свое привилегированное положение для утверждения общедоступной добродетели совести и обличения тех, кто позабыл о ней. Закон при этом отступал на второй план, потому что был всего лишь инструментом, который мог работать на любое решение. Ставя совесть выше закона, Аксаков опирался на значительную литературную традицию суда публики, речь о которой пойдет в следующей главе.
Глава 3
На правду и суда нет: «законодательные» и «судебные» функции литературы
Благодаря книгопечатанию, уменьшилась в Европе жестокость преступлений, заставлявших дрожать наших предков, бывших по очереди то тиранами, то рабами.
Ч. Беккариа. «О преступлениях и наказаниях».В отсутствие открытых судебных заседаний театр, литература и публицистика позволяли отвечать интересам публики к суду и связанным с ним нравственным дилеммам. Романы, повести, пьесы, поэмы, оды, фельетоны и прочие формы художественного публичного выступления приглашали читателей порассуждать о (не)справедливости, преступлении, вине и ответственности. В таких рассуждениях читатель мог руководствоваться прежде всего чувствами, обходясь без юридической теории или статей Свода законов. В этой главе речь пойдет о том, как литературные грезы и интересы литераторов начали формировать суждения публики о суде.
Могущественную силу воздействия литературы на действительность в модерном мире ощущали все образованные люди XIX века. Пожалуй, наиболее авторитетно это сформулировал историк Алексис де Токвиль в своей знаменитой книге 1856 года «Старый порядок и революция». В ней движущей силой Великой французской революции он назвал мечтателей-литераторов и их безответственное творчество, порождающее недовольство реальностью и притязания на ее изменение300. В долгом XIX веке литература на множестве блестящих примеров доказала, что может действительность преобразовать в слова, а человеческую жизнь – в изображение. Это наблюдение как будто подтверждает обвинение Токвиля: от безобидного фельетона до террора один шаг.




