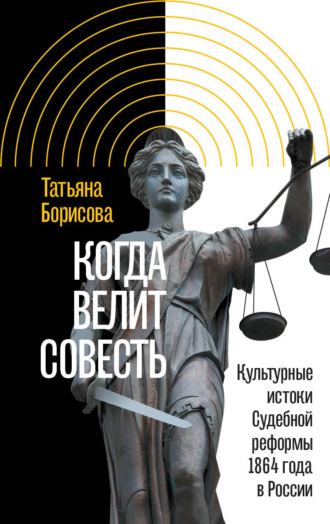
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
Для литературоцентричной российской культуры «террористический» потенциал литературы как сферы социальных экспериментов представляет особый интерес. Еще Ю. М. Лотман показал, что начиная с XVIII века стремительно развивающаяся литература стала полем сосуществования разных культурных миров, в которых старое и новое, заимствованное и свое творчески перерабатывалось и воспринималось как полезное в реальной жизни. Именно в литературе стало отчетливо обозначаться отмежевание прозападной дворянской культуры. Оно стало следствием мощной прививки всех европейских литературных жанров в первой трети XVIII века и их быстрого усвоения на русском языке301. На этой основе в русской литературе и критике XIX века стремительно происходило специфическое «одомашнивание» глобальных политических вопросов современности, почерпнутых на Западе.
Подчеркнем важный момент, который мы начнем раскрывать в этой главе: вместе с европейской литературой XVIII века в Россию проникало и политическое направление морального суждения о вымышленном – художественном и теоретическом. Воспринимая и перерабатывая французские и английские образцы, российские авторы и их читатели усваивали и политические задачи культуры как творческой критики настоящего. Райнхард Козеллек четко обозначил эту тенденцию развития современности: совестливое суждение о воображаемом переносилось в существующую реальность и задавало векторы «кризиса» и «необходимости», которые определяли требования к настоящему и формировали будущее302. Козеллек показал, что тем самым совершалось возвращение частного морального суждения в публичную сферу, где монополией на истину владело государство. Это возвращение пересматривало старый политический консенсус в Европе, когда моральное суждение субъекта было заперто в рамках «частного мнения», а государственная монополия на истину и силу обеспечивала мир после кровопролитных религиозных войн. Европейский просвещенческий проект поставил вопрос о правильности и справедливости такого положения дел. Важнейшим условием для поиска новых форм достойной жизни просветители провозгласили моральную свободу как гражданскую общественную ценность, не скованную частными рамками.
В Россию эти европейские явления доходили двумя путями. С одной стороны, государи уверенно осваивали идеи о непогрешимой суверенной власти абсолютистского государства и подчиненной ей совести подданных, что было показано в первой главе. С другой стороны, развивался и просветительский этос облагораживающей европейской культуры со «взрослым», в кантианском смысле, и ответственным благонадежным подданным в центре. Представление о таком желаемом векторе развития для Российской империи было очень устойчивым, несмотря на его потенциально подрывной потенциал, как мы видели на примере И. С. Аксакова во второй главе.
Однако насколько сильно фантазии литераторов о свободном моральном суждении могли повлиять на Россию, где уровень грамотности оставался крайне низким на протяжении всего имперского периода и радикально повысился только большевистским ликбезом? Этот вопрос заостряет спор о несоответствии публики и публичной сферы в России условной западноевропейской схеме303, стоящей на трех китах политической философии Канта, Арендт и Хабермаса304. В этой дискуссии представляется правильным сосредоточиться на «моментах гласности» в российской истории305, когда существование публичного обсуждения общих дел было значимой реальностью. В подобных ситуациях и неграмотная городская публика на уровне аффекта могла проникаться энтузиазмом читающей публики. Эпоха гласности 1850–1860‑х годов была именно такой. Публичный, аффективный моральный суд, вышедший на передний план в то время, задал общественно-политическому развитию России революционное направление. Это явление нельзя уяснить без понимания длительной предыстории развития судебной функции читающей публики.
Судебные амбиции русской литературы в диалоге с имперской властью: поединок придворных поэтов 1744 года
Бурный рост печати в первой половине XIX века привел к тому, что наступление «суда литературы» на все сферы жизни стало отчетливо заметно и в России. У этого своеобразного явления была своя предыстория, в которой можно заметить интересную параллель в развитии правосудия и литературы. Решающую роль для развития суда публики, так же как и в случае с развитием судебной системы, сыграли имперские амбиции российской власти. Если с 1722 года во всех судебных местах империи на судейском столе должно было находиться Зерцало, то в судейских сердцах, в идеале, помимо страха суда Божия должны были звучать величавые оды о царстве правды и о божественных силах, помогающих побеждать в битве с врагами306. Именно об этом писал в своем известном стихотворении 1780 года Г. Р. Державин, яркий поэт и министр юстиции:
Восстал всевышний бог, да судитЗемных богов во сонме их;Доколе, рек, доколь вам будетЩадить неправедных и злых?Ваш долг есть: сохранять законы,На лица сильных не взирать,Без помощи, без обороныСирот и вдов не оставлять.Ваш долг: спасать от бед невинных,Несчастливым подать покров;От сильных защищать бессильных,Исторгнуть бедных из оков307.Кирилл Осповат показал, что, восславляя государственный суверенитет, светская литература XVIII века стала важным подспорьем для продолжения наступления светской власти на сферы, ранее подконтрольные только православной церкви308. Подчинив церковное управление одной из петровских коллегий – Синоду и упразднив экономическую самостоятельность православной церкви, обновленное Петром государство начало утверждать свои новые богоугодные добродетели в одах. Именно этот литературный жанр был призван властью стать новой проповедью государственных ценностей309, а светская литература постепенно стала теснить религиозные тексты, претендуя на роль учителя жизни. Театральные представления, открытые изящной публике Петром I, выполняли ту же воспитательную роль, высмеивая неправильное, с государственной точки зрения, поведение в комедиях и возвеличивая добродетель в трагедиях. Театр и литература с их нравоучительной прагматикой вовлекали публику в осуждение пороков и вознаграждение добродетели, тем самым способствуя формированию «судебных амбиций» публики310.
Если попытаться проследить генеалогию «судебных амбиций» литературы в России, то мы, вслед за В. Г. Белинским, должны принять за отправную точку елизаветинское время. В 1744 году произошло знаменательное событие, с которого можно отсчитывать историю апелляции к суду публики в литературном споре. Речь идет об известном печатном состязании поэтов и драматургов – Сумарокова, Тредиаковского и Ломоносова. В 1744 году они анонимно представили книгу-диспут «всех читающих обществу»311, в которой на суд публики предложили свои одические переложения 143‑го псалма Ветхого завета – псалма Давида. Каждый поэт анонимно изложил текст псалма тем стихотворным размером, который, по его мнению, наиболее приличествовал оде.
Этот известный поединок312 стал не просто важной вехой реформы стихосложения, в которой каждый из поэтов имел шансы утвердить свое понимание новой нормы силлабо-тонического письма для оды. Для нас важна судебная составляющая книги-диспута. Она заложила два согласованных представления о состязании литераторов перед публикой в литературной критике и печати вообще. Иными словами, то, каким образом Ломоносов, Сумароков и Тредиаковский приглашали публику выбрать лучший стихотворный размер, заложило основу базовых представлений о суде публики. В чем заключались эти представления?
Во-первых, противоборство предполагало равенство притязаний на истину участников литературного процесса при условии наличия у них литературного дарования. Поэты выступали анонимно, а следовательно, читатель мог считать их изначально равными в стихотворном искусстве. На это указывал эпиграф из «Науки поэзии» Горация, который анонимные авторы привели со своим переводом: «Sic honor et nomen divinis vatibus atque carminibus venit», то есть: «Сим образом искусные Стихотворцы и их Стихи честь и славу себе получают».
Во-вторых, влиятельным представлением стало признание силы за определенными приемами художественного мастерства. Профессиональной основой спора объявлялась древняя наука поэзии. В состязании поэтов спор шел о равнозначно легитимных размерах стихосложения, из которых публика должна была выбрать наиболее соответствующий высокому регистру одического стиха. Тредиаковский, который перевел на русский язык «Науку поэзии», выбрал для диспута эпиграф из той ее части, где Гораций говорил о высоком предназначении первых великих поэтов. Они толковали божественную волю, покоряли своим пением силы природы, вели воинов в бой и совершали прочие великие поступки313.
Предполагаемая доступность мастерства анонимных поэтов дополнялась широтой аудитории неизвестных судей, к которым обращались поэты за решением. Здесь примечателен выбор для состязания именно псалма из Псалтири, а не оды того же Горация или популярного в то время Буало. Действительно, церковнославянский текст Псалтири был доступен гораздо более широкому кругу публики, чем античные или французские тексты. При этом русские divinis vatibus, которых Тредиаковский скромно перевел как «искусные стихотворцы», отсылали знающего читателя к детально описанным Горацием священным (divinis) началам поэзии. Эта заявка на сакральное также, возможно, определила выбор текста из Псалтири.
Вообще в этом диспуте поэтов отчетливо проявились новые начала власти в обществе Нового времени: сакральное (слово Божье, пересказанное в псалме) вошло в союз с техникой (приемами стихосложения). Именно этот союз, судя по всему, обеспечил значимый рост общественного престижа поэзии и литературы вообще в елизаветинское время. Кирилл Осповат, продолжая исследования Б. А. Успенского и В. М. Живова314, показал, что десакрализация религиозного и подчинение его государственным задачам проходили в рамках переноса «священного» в сферу эстетического315. Включение широкой «литургической публики» в обсуждение светских явлений, каковым являлся спор об одическом переводе псалма, также работало на десакрализацию. М. В. Ломоносов в рассматриваемой книге-диспуте выразил эту мысль следующим образом:
Но я, о Боже, возглашуТебе песнь нову повсечасно;Я в десять струн тебе согласноПсалмы и песни приношу,Тебе, Спасителю Царей,Что крепостью меня прославил,От лютого меча избавил,Что враг вознес рукой своей.Можно сказать, что печатный диспут 1744 года не только дал толчок развитию судебных компетенций публики, но и начал трансформировать уже разрабатываемую государством политическую функцию изящной литературы. Теперь в сферу светского обсуждения ее общих норм помимо стихотворца входил и читатель, претендующий на право судить о прочитанном. Мнение публики поэты объявляли важным для принятия решения о правильном размере стиха для русской оды. Приглашая публику рассудить их, три ведущих русских поэта признавали право публики выносить решение о наиболее «приличном» размере стиха для выражения национальных идей на русском языке в оде, то есть право судить316.
Самым кратким образом отметим грубо-оскорбительный характер полемики, которую вели между собой соревновавшиеся поэты в дальнейшем. Так, например, Сумароков в «Двух эпистолах» 1748 года, недвусмысленно указывая на Тредиаковского, обращался к нему с такими обличениями: «склад твой гнусен», «спроси хотя у всех… тебе пером владети грех»317. Тредиаковский не оставался в долгу и, протестуя против публикации этого стихотворения, справедливо писал, что «язвительство» Сумарокова нарушает правила литературной полемики: «не пороки пишушчих больше пятнаются, сколько сами писатели»318.
Как видим, внимание к личности субъекта и публичное ее обсуждение становилось своеобразной литературной практикой, предвосхищая публичный суд над личностью преступника. Подобно тому как прокурор будет стремиться создать негативный образ подсудимого у присяжных, поэты-соперники стремились очернить друг друга. Аналогичным образом в судах развернется спор о личности преступника между прокурором и адвокатом.
Забегая вперед, отметим, что новый суд, введенный в 1864 году, основывался на схожем представлении о судебных способностях публики, присяжных и государственных судей. Если они и не были равны в своих знаниях о юриспруденции и законах, то их уравнивала совесть. Во второй части книги будет показано, что эта идея, хоть и сложная в исполнении, представлялась вполне реальной. То, что совесть присяжных приравнивалась к совести судебных чиновников-юристов, было зафиксировано в Судебных уставах 1864 года. В них было прописано, что наравне с законом присяжные заседатели и все участники суда по должности – обвинитель, защитник, председатель судебного заседания – должны руководствоваться моральным суждением по совести. Совесть стала восприниматься особым свойством любого человека, которое нужно правильно применить в суде. Литература подготавливала писателей, читателей и театральных зрителей к общественному опыту применения совести.
Во многом общественное воздействие литературы на совесть судей объясняется схожестью механизмов ее воздействия на читателей и зрителей в трагедии. Их суть сформулировал Тредиаковский, критикуя «не изрядную» трагедию своего соперника Сумарокова. Он напоминал, что «сушчественных свойств трагедии» два – ужас и жалость319. Те же «существенные свойства» обнаруживаются в судебном поединке обвинения и защиты. Если прокурор требует сурового наказания, указывая на ужас преступления и вызывая жалость к его жертве, то адвокат на первое место ставит жалость к преступнику и ужас ситуации, когда преступление совершилось как бы само собой, без злой воли человека. Все это мы сможем проследить, когда перейдем к анализу конкретных судебных процессов, но сейчас подчеркнем, что литература стала своеобразным учителем чувств, воспитателем сочувствия публики. Именно сочувствие станет важной составляющей публичных судебных заседаний с участием присяжных, поэтому понимание особенностей морального суда литературы абсолютно необходимо. Без морального суда литературы Судебная реформа 1864 года не воспринималась бы такой значимой и успешной.
Важно отметить, что, призванные стать воспитателями подданных, литераторы второй половины XVIII века начали претендовать на роль, близкую по своему значению к законодательной. Они заявили о своем праве авторитетно судить не только о литературе, но и о ее главном средстве – литературном русском языке. Так, участник диспута поэтов Александр Петрович Сумароков (1717–1777), считающийся отцом русского театра и первым профессиональным русским литератором, наиболее последовательно выступал за защиту «правильного русского языка» от разного рода «порчи»320. Его основной мишенью был «подьяческий слог», которым затуманивался смысл законов и творилась несправедливость по всей России321. В своих произведениях Сумароков обвинял канцелярских служащих в том, что стиль их письма намеренно искажает истину в государственных делах. Так, он видел хитрый расчет канцеляристов даже в редком использовании знаков препинания, которым действительно отличаются документы середины XVIII века322:
Точек и запятых не ставят они для того, чтобы слог их темнее был, ибо в мутной воде удобнее рыбу ловить323.
Противопоставляя испорченный канцелярский язык правильному литературному, Сумароков обличал неправильности орфографии, лексики, синтаксиса и пунктуации «подьяческого вздора», даже особенности почерка канцеляристов, и использовал дидактический жанр наставления, чтобы аллегорически «казнить» ненавистных подьячих на правильном литературном языке:
Вместо чтоб сказати: Который подьячий взял с меня взятки, и который заслужил себе за то наказание; котораго крючкотворца севодни сковали за вину, за которую осудили его повесить. Могу я так сказать… Подьячего взявшаго с меня взятки, и заслужившаго себе наказание, скованнаго за вину, и осужденнаго на виселицу324.
В целом Сумароков стал первым критиковать язык судопроизводства (и делопроизводства вообще), в котором, по его остроумному замечанию, вследствие разнообразных манипуляций теряется суть дела:
Многие пишут присудствовать; ибо подьячие чают то, что сие слово не от Суть но от Суда325.
По мнению Сумарокова, истинную суть вещей должны были выяснять ученые, которым «позволено изображать кажущееся истиною, хотя оно и не основательно»326.
Конечно же, в XVIII веке в подобном суде публики могли участвовать лишь читатели весьма узкого круга, которые получили экземпляры книги-диспута от самих поэтов и их друзей в качестве некоего знака вежливости или почтения. Театральными постановками высоких драматических произведений, торжественным чтением од или критических эпистол могли наслаждаться только привилегированные подданные. В XIX веке с ростом образованности в обществе читательский круг расширялся327, одновременно с этим росли и претензии писателей на суд, особенно на суд о настоящем судопроизводстве.
Совесть на службе престолу и естественный закон
Притязания образованных подданных на право судить о правильном и неправильном в государстве во многом были связаны и с тем, что начиная с Петра российские законодатели XVIII века стремились вовлекать больше подданных в государственные проекты, действуя не только «насильством», но и поощрением, стимулированием, разрешением. Так, в самом языке деловой речи XVIII века фиксируется появление множества слов для выражения разрешения. Это было связано с вниманием к законодательству других империй и заимствованию оттуда как идей, так и техники управления. Помимо традиционного выражения разрешения в законе – при помощи понятия «воля» (дать волю, дать на волю) – в петровском законодательстве становятся популярны полонизмы дозволять(ся), позволять(ся), допущать(ся) (ср. dozwolić, pozwolić, dopuszczać). В екатерининское время они дополняются европейскими кальками иметь право (нем. Recht haben; фр. avoir le droit), иметь власть (нем. Gewalt/Macht haben; фр. avoir le pouvoir), властен (фр. autorisé; нем. berechtet, befugt, bevollmächtigt)328.
Новые слова и понятия помогали проводить в жизнь идеи просвещения подданных, необходимые, чтобы положиться на их благоразумие в государственных делах, особенно в делах местного управления. Такие идеи были наиболее характерны для царствования Екатерины II. Самым ярким их проявлением стали хорошо изученные символические акции просвещенной государыни – екатерининский Наказ уложенной комиссии (1766) и сама Уложенная комиссия (1767–1768). В XIX веке Уложенную комиссию Екатерины и не написанный ею кодекс стали изображать как прецедент работы в императорской России учреждения квазипарламентского типа, которому просвещенная государыня доверила быть соучастником в разработке реформ329. Несмотря на то что уложение так и не было создано и пафос екатерининского Наказа депутатам оказался таким же блестящим и бесполезным, как позолоченный ковчег, специально созданный по приказу монархини для оригинала Соборного уложения330, оценка этого проекта подданными была положительной. Профессор государственного права А. Д. Градовский писал в своем учебнике 1872 года, что работа комиссии «усилила и освежила» отечественное право «новыми элементами, почерпнутыми из народного источника»331.
Такую благожелательную интерпретацию кодификационного проекта Екатерины II можно объяснить тем, что императрица соединила прогрессивные европейские идеи о праве в Наказе с практикой, напоминающей народное правотворчество, в Уложенной комиссии. Тем самым проект Екатерины создавал очень привлекательный, модерный образ России как «цивилизованной» державы с конституционными основами. Такая интерпретация332 созидалась самой Екатериной, которая проявила беспрецедентную активность в популяризации своего замысла333. Для сравнения вспомним, что о более скромной Уложенной комиссии Елизаветы (1762–1764), созванной из представителей трех сословий, почти ничего не известно, тогда как представление об Уложенной комиссии Екатерины II как об оригинальной мере нового политического курса «законной монархии» прочно вошло в литературу334.
Наказ Екатерины, как известно, был написан под влиянием разных «передовых» представлений и адресован тому же «всех читающих обществу». Своим Наказом императрица, вслед за Монтескье и особенно Беккариа, проводила важную идею о специфическом характере судебной власти и о необходимости некоторой ее автономии.
Екатерине оказались особенно близки мысли просветителей о связи правосудия и нравов. Наиболее последовательно эту связь разработал Чезаре Беккариа. Именно на его модный трактат «О преступлениях и наказаниях» 1764 года Екатерина опиралась в своем Наказе, цитируя автора часто почти дословно. С. И. Зарудный, один из архитекторов Судебной реформы, настаивал, что из нашумевшей книги Беккариа Екатерина заимствовала для своего Наказа почти сто статей об уголовном суде. В своем исследовании Зарудный констатировал, что трактат Беккариа – «это не итальянская, это скорее русская книга, написанная только на итальянском языке: Екатерина Вторая ее усыновила»335.
Объясняя смысл своего трактата, Беккариа писал, что его труд – это ответ на течение жизни, которая изменяет человеческие и, следовательно, государственные представления о справедливости. Если «справедливость божественная и справедливость естественная по сущности своей непоколебимы и постоянны»336, то государственная справедливость меняется из‑за изменений в обществе. Поэтому происходит переоценка пользы тех или иных человеческих действий для изменяющегося коллектива и его интересов. Если богословы занимаются «границами правды и неправды в отношении существа добра и зла каждого действия», то государственную справедливость определяют «писатели». К ним причислял себя и Беккариа, которого Екатерина приглашала приехать в Санкт-Петербург для деятельного участия в создании нового общества и государства в Российской империи. Так же как и Беккариа, Екатерина относила себя к «писателям», формирующим новую реальность. Поэтому ее Наказ был не только законодательным манифестом императрицы-учредительницы, но в том числе и упражнением в творческой созидательной рефлексии о государственной и человеческой справедливости337.
Возможности «писательского» моделирования справедливости Екатерина проверяла в своих пьесах и других литературных занятиях. Ее «артистический» проект был направлен на то, чтобы содействовать преобразованиям именно через работу с подданными, путем их улучшения. Уже в первый год своего правления Екатерина приступила к практическим шагам, чтобы «вывести новую породу людей» и тем самым запустить механизм саморазвития общества. Одним из таких шагов можно назвать одобренный императрицей в 1863 году педагогический план И. И. Бецкого «Генеральное учреждение о воспитании юношества обоего пола».
Наказ Уложенной комиссии 1766 года и предоставленную им возможность для депутатов откликаться на передовые идеи своими предложениями можно считать продолжением проекта саморазвития общества через распространение прогрессивных идей. В этом же ключе можно рассматривать и журналистскую кампанию Екатерины, начатую изданием ею «Всякой всячины» в 1769 году. Неслучайно то, что преемственность в этом проекте наблюдалась даже на уровне исполнителей. Так, издателем сатирического журнала «Всякая всячина» стал статс-секретарь Козицкий, переводчик Наказа на латинский язык. Появившиеся затем «И то и се», «Ни то ни се», «Смесь» и «Адская почта», как и «Поденщина», выходили под патронажем императрицы.
Все перечисленные выше периодические издания сделали объектом своей сатиры устаревшие представления о добре и зле и стремились вовлечь в свои педагогические упражнения читателей, обращаясь к «суду публики» от лица своих просвещенных авторов. Один из авторов «Всякой всячины» писал, что прибегает именно к этому суду, потому что считает публику «за судью справедливого»338.
Частыми героями обличений екатерининских сатириков становились продажные судьи, жулики-подьячие и, что характерно, псевдописатели, творчество которых низводилось до «рвотного средства». Настоящие же писатели осознавали себя в духе пафосного латинского выражения, которое избрало в качестве эпиграфа издание «И то и се»: «Concordia res parvae crescunt , discordia magnae dilabuntur» («Согласием малые государства укрепляются, от разногласия величайшие распадаются»). С целью публичного контроля за отправлением правосудия известный литератор Фонвизин на страницах «Собеседника», издаваемого императрицей, выступал с инициативой систематически печатать судебные тяжбы и решения по ним:
Многие постыдятся делать то, чего делать не страшатся. Всякое дело, содержащее в себе судьбу имения, чести и жизни гражданина, купно с решением судебным, может быть известно всей беспристрастной публике; воздастся достойная похвала праведным судиям, возгнушаются честные сердца неправдою судей бессовестных и алчных339.




