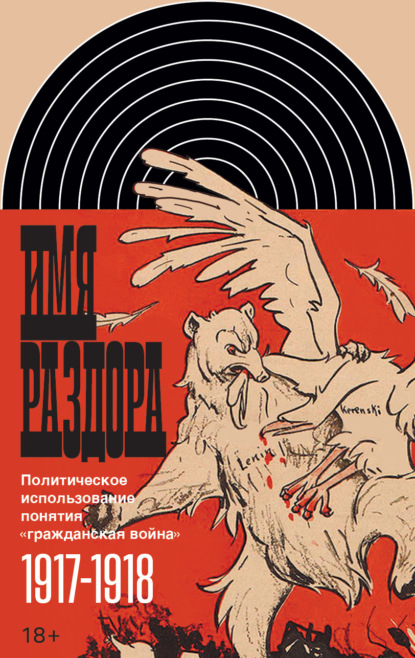Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
В конце пьесы зритель узнает, что Вахрамеев закупает на свои средства калачи для ждущих приговора арестантов. Его благодеяния к крестьянам-арестантам вызывают подозрительное отношение дворянских судей, которые не забывают указать ему на его место. А один из них, ранее уличавший купца в том, что тот слишком размашисто подписывается под приговорами, прямо осаживает Вахрамеева:
Да где ж это вы подписываете? Ну, куда это вы заехали? Совсем под Председателя! Вот ваше место240.
Дворянская честь против закона?
Неудовлетворительное состояние судов было частью общей картины многочисленных нарушений, которые ревизия вскрывала не без труда. В своих письмах из Астрахани Аксаков рассказывал о противодействии ревизии со стороны губернской власти, которое удалось преодолеть только тогда, когда сенатор Гагарин употребил все силы, чтобы решением в столице сняли местного губернатора И. С. Тимирязева. Аксаков писал, что после этого местные начальники перестали противиться ревизорам, потому как «столп», вокруг которого все стояли, удалось сокрушить.
Круговая порука местных руководителей перед лицом столичного начальства стала объектом обличения в художественной и публицистической литературе, начиная со знаменитого «Ревизора». Но то, что увидел Аксаков, поразило его тем спокойствием и наивным самооправданием, с которым чиновники объясняли, почему их действия расходятся с требованиями закона. Аксакову казалось, что чиновники находили свой местный порядок вполне удобным и не боялись наказаний из‑за убогости интересов.
Если Гоголь указал на уверенность провинциальных начальников в своих силах как на явное общественное зло, то Салтыков-Щедрин, хорошо знакомый с реалиями провинциальной службы, пытался объяснить ее как явление системное. В сатирическом очерке «Завещание моим детям» 1865 года он описывал устои местной круговой поруки в выражениях, используемых традиционно для показа примеров чести и воинской доблести. Сравнивая геройства дворян, проявляемые ими в круговой поруке, с подвигами на поле брани, он высмеивал ложный пафос дворянской чести и верной службы престолу. Что характерно, Щедрин считал, что большинство случаев подобного сговора происходило в случаях преступлений против крестьян («Кто без греха…»). Вот как Щедрин показывал организацию коллективной «взаимовыручки» вокруг дворянского преступления:
Проштрафится, бывало, Дракин – сейчас к Расплюеву.
– Так и так – беда!
– Опять изувечил?
– И всего-то одну плюху… не понимаю даже, что с ним случилось: как закатился!
– Ладно.
Едет Расплюев к Хлобыстовскому, от Хлобыстовского к другому Дракину, от другого Дракина к Гвоздилову, всем говорит: так и так. Посудят, порядят между собой и определят: стоять. Сейчас наведут это на них пушку – стоят. Пустят врассыпную картечью – стоят. Науськают шавок таких, что и в уши, и в нос, и в глаза вцепятся, – стоят. На все про все один ответ: знать не знаем, ведать не ведаем, а должно полагать, случилось с ним это от нетрезвой жизни241.
Дальше Щедрин разъяснял, что взаимная преданность основывалась не только на родственных связях, но и на понимании «общих слабостей»:
Все мы были люди, все человеки, все чувствовали свои слабости. Если виноват Хлобыстовский, виноват Расплюев, виноват Гвоздилов – могут ли они друг перед другом нос задирать? Ну, и выходила у нас тут дисциплина… настоящая, естественная, так сказать, дисциплина. …Большею частью тем и оканчивалось, что пошумят, пошумят между собой (дворяне. – Т. Б.), а потом и определят: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь из нас одного, куда ж бы девались все прочие? Ну, и опять наводят пушки, опять напускают шавок – не шелохнемся, все как один! Что ж бомбардиры-то наши? а вот что: попалят, попалят, увидят, что втуне, – и разойдутся242.
В пьесе Аксакова мы видим такую же историю: преступное поведение в отношении женщин неблагородного происхождения и жестокие наказания крестьян воспринимались в уголовной палате как понятная слабость. Судить за такое было неприлично, и, как утверждал Жомов, только бесчестные, корыстные судьи низкого происхождения могли дать ход таким делам. И именно от них, от таких «шавок» защищали друг друга люди чести, дворяне243.
Честь дворян как этическая основа порядка вообще и правильного судопроизводства в частности244 стала отчетливо проблематизироваться с начала XIX века245. Уже упоминавшийся в первой главе судебный деятель николаевского времени М. А. Дмитриев подчеркивал, что только обеспеченное потомственное дворянство с традициями чести могло быть опорой справедливого правосудия. В этом его убеждал опыт собственной семьи. В своих мемуарах «человеком непоколебимой справедливости» он называл деда – богатого сызранского помещика екатерининского времени, любившего выезжать в город в сопровождении небольшой свиты246.
По делам своих имений дед Дмитриева был прекрасно осведомлен в законах о межевании, «а будучи богат, он никого не боялся и потому, при разговоре о делах, был гроза сызранских судей». Убогие познания в законах местных судей и их недостойное поведение мемуарист передавал в двух семейных анекдотах. В одном дед стыдил сызранского судью за то, что тот законы не читал: «Ох, пробовал читать, батюшка! – отвечал судья. – Ну и что же? – Хуже выходит!»
Вторая история о справедливом деде обличала хозяев продажных судей – сутяг-дворян, незаконно отсуживавших землю у малосильных соседей. Когда хитрый и корыстолюбивый дворянин Василий Борисович Бестужев попытался незаконно «оттянуть судом землицы» у деда Дмитриева, тот сделал публичное заявление. Когда в гостях зашла речь об их тяжбе, дед Дмитриев прямо сказал Бестужеву, что не даст ему отсудить свою землю, но готов переписать ее на Бестужева, если тот при всех признает, что тяжба незаконна. Жадный Бестужев после некоторых колебаний сделал это, и дед исполнил свое обещание. Далее Дмитриев с удовольствием описывал, что с тех пор сутяга Бестужев перестал существовать для деда. Даже когда Бестужев бывал в доме деда по случаю приезда его сына, с которым Бестужев вместе служил в гвардии, хозяин вообще с ним не разговаривал, намеренно игнорируя его.
Приведенная семейная история является свидетельством не только болезненного самолюбия богатого старика. Сам Дмитриев-внук видел в поступках деда проявление справедливости и чести, свойственных лучшим представителям дворянского сословия. Но есть в ней и ценное, не отрефлексированное Дмитриевым-внуком общее место: небогатые, не обладающие честью судьи, пусть даже и дворяне, не могли обеспечить правильный ход правосудия.
В целом в николаевское время отчетливо прослеживается тенденция романтизировать дворянство, которое в качестве морального авторитета и чести нации было способно деятельно участвовать в жизни страны. Свидетельство этому мы можем найти, например, в стихах графини Евдокии Ростопчиной. И в заметках А. С. Пушкина «О дворянстве» (1830) речь идет об особых правах российского дворянства – праве собственности и праве «частной свободы». Право «частной свободы» было следствием права собственности и поэтому накладывало некоторые обязательства. Пушкин считал, что, поскольку дворянство богато, оно может не трудиться, посвящая свое время защите народа. Но для этого дворянство обязано быть просвещенным и учиться «независимости, храбрости, благородству (чести вообще)». Признавая, что эти «качества природные», то есть принадлежат всем людям вне зависимости от социального статуса, Пушкин указывал на то, что «трудолюбивому классу» развивать их некогда247.
Непросвещенные, хоть и богатые дворяне – сутяга Бестужев, взявший продажных судей на содержание в Сызранском уезде, и изображенный Пушкиным в «Дубровском» помещик Троекуров – люди без чести, а потому они не могли стать защитниками народа. На их фоне декабристы пытались делом утверждать другую модель честной достойной службы, в том числе и на судейских должностях, совсем не престижных.
О новаторстве такого социального эксперимента говорит яркий эпизод из воспоминаний декабриста Пущина. Осуществляя собственным примером идейную программу перерождения государства, красавец аристократ Пущин сменил свой конно-артиллерийский мундир на гораздо более скромный мундир надворного судьи248. В нем в 1824 году на балу московского генерал-губернатора Голицына он танцевал с губернаторской дочерью. Увидев эту картину, московский «туз» князь Юсупов не смог скрыть своего изумления: «Как! Надворный судья танцует с дочерью генерал-губернатора? Это вещь небывалая, тут кроется что-то необыкновенное!»249 Обратим внимание на слово «кроется». Действительно, декабристы действовали с умыслом, и когда умысел проявился во время бунта, то «необыкновенные» танцы прекратились.
Яркий эпизод с танцем губернаторской дочери и надворного судьи наглядно показывает, что суд в николаевское время был местом, где достойным людям было находиться зазорно. Неслучайно в пьесе Аксакова рассуждающий о справедливости дворянский заседатель Жабин сетовал на то, что бумаги судебных дел написаны отвратительными почерками: это подчеркивало контраст его благородных намерений и дикости канцелярских судебных порядков. Общим местом было представление, что в суде правят канцелярские крючки и корыстные заседатели от сословий, решающие судьбы людей с возмутительной безответственностью. Именно ее Аксаков-драматург стремился показать, используя в своей пьесе важный лейтмотив: вся болтовня заседателей и их механическое подписывание приговоров проходят на фоне арестантов-крестьян, в течение целого дня ждущих решения своей судьбы.
Несправедливость суда над непривилегированными подданными
Любопытно, что в своих ревизорских отчетах 1844 года Аксаков не выделял сословную несправедливость приговоров суда как отдельную проблему. В отчетах сенатору Гагарину он концентрировался на систематическом пробуксовывании требований закона по нескольким направлениям, совпадавшим в земском и уездном судах:
• медленность;
• неправильная сдача в архив неоконченных дел;
• совершенное упущение некоторых дел и предписаний из виду;
• беспорядочность в производстве следствия;
• уклончивость в исполнении предписаний250.
Аксаков относил незаконные решения в отношении крестьян в то время к последней группе нарушений в работе судов – к уклонению судей от исполнения предписаний законов. Как предполагал бороться с ними ревизор – титулярный советник? В соответствии с миссией правоведов251 он видел свою роль не только в том, чтобы найти нарушения, но и в том, чтобы дать мощный импульс к их исправлению в будущем.
В работе с астраханскими чиновниками Аксаков разработал особую систему. Зафиксировав нарушения, ревизор требовал от чиновников деятельного исправления ошибок. Вот как в письме родным он подчеркивал воспитательный эффект своей системы: «Все замечания кладутся тут же карандашом, потом приводятся в порядок, и я делаю судье запросы, на которые он обязан мне давать письменное объяснение, так что каждое упущение очищено или сознанием, или достаточным оправданием» (курсив мой. – Т. Б.)252.
В отчете он записывал, что «разъяснил» уездному судье Законы о состояниях – ту часть, в которой прописывалось, что помещики должны
обязываться подпискою в нечинении ищущим вольности побоев и наказаний без ведома Полицейского начальства.
Это разъяснение потребовалось потому, что в соответствии с интересами дворян в Астрахани не помещики, а сами ищущие вольности крестьяне облагались дополнительными требованиями. Не помещики подписывали гарантии в нечинении наказаний желающим выкупиться крестьянам, а крестьяне облагались дополнительными обязательствами. Помещики же безнаказанно их истязали, хотя по закону обязывались не только воздержаться от побоев, но и дать письменную подписку об этом. Аксаков удовлетворенно отмечал в отчете: «В следствие моих замечаний Судья уведомил меня о том, что в уездном суде сделано постановление о обязании помещиков подпискою»253.
Такое же нерадение проявляли уездный и земский суды в решении вопросов, касающихся нижних сословий вообще и инородцев в частности. С возмущением Аксаков писал о том, как на два года уже затянулось решение вопроса о судьбе девочки Прасковьи, прижитой крепостной крестьянкой с матросом Данилою Васильевым. Губернское правление прислало ее дело в Уездный суд, чтобы «сделать по этому предмету заключение: следует или Прасковью возвращать в помещичье владение, или оставить при отце?» Ревизор Аксаков указывал, что, пока уездный суд затягивает решение этого дела, закон не соблюдается – ведь матрос не подлежал гражданскому суду. Даже для его допроса по закону нужно было призвать депутата, «чего не сделано»254.
Смиренно ждущие приговора крестьяне в пьесе, как уже говорилось, присутствовали на заднем плане как незримые свидетели бесконечно попусту болтающих судей. Им уделили внимание только в заключительных явлениях пьесы. Уже когда судьи собрались ехать на светское мероприятие, в присутствие наконец вводят крестьян-арестантов. Они показаны Аксаковым преступниками поневоле – в драке они убили вора. Секретарь зачитывает, что они оправдывали себя тем, что «выведены были из терпения бездействием будто бы земской полиции и грозящим им разорением»255. Крестьянка с грудным ребенком обвинялась в том, что не донесла на них. Крестьян приговаривают к каторжным работам, а мать младенца – к поселению в Сибири. При этом другую крестьянку, которую уличили в воровстве, суд отпускает с формулировкой, принятой в дореформенном судопроизводстве: «оставить в сильном подозрении». Затем отдельно оглашается приговор крестьянину, обвиняемому в организации неповиновения помещику и «в неоднократной подаче незаконных просьб государю императору». Если предыдущие обвиняемые кланялись иконам после оглашения приговора, то «зачинщик неповиновения» объявляет, что хочет обжаловать приговор, но его уводят конвоиры. Как бы смягчая резкий эффект от его недовольства, секретарь поясняет: «Да-с, он, видно, не знал, что ему можно жаловаться только после наказания, уж из каторги…»256.
До отправки на каторгу или в Сибирь всем преступникам назначались телесные наказания, которым не подвергали дворян. Четкое разделение представителей сословий на тех, в отношении которых допустимы или недопустимы телесные наказания, поддерживало строгую социальную иерархию. Так, ревизор Аксаков ставил на вид астраханскому уездному суду неправильное наказание коллежской регистраторши с сыном за побои мещанки. Виновные в побоях не могли быть посажены на хлеб и воду, так как это являлось телесным наказанием, недопустимым для дворян.
Конец пьесы заострял проблему справедливости представленного на сцене правосудия. Строгие приговоры крестьянам нарочито контрастировали с законной безнаказанностью помещика Жомова, избивавшего своих крестьян и гувернантку. Но к такому открытому обличению дворянского правосудия Аксаков пришел, только выйдя в отставку. Из Астрахани же он вернулся блестящим молодым чиновником с прекрасными перспективами на службе, в значительной степени удовлетворенным своим вкладом в работу ревизии. Показательная ревизия Гагарина была отмечена как весьма успешная, а ревизор Аксаков выделен особо. По представлению Гагарина Аксаков был в июне 1845 года «Всемилостивейше пожалован в Коллежские асессоры»257, в тот чин, о котором мог только мечтать Хлестаков из гоголевского «Ревизора».
«Благородный чиновник, подлый чиновник»
По окончании ревизии Аксаков вернулся к своей прежней службе в московский Сенат. И тут его ждала интересная перемена ролей. В письме товарищу-правоведу Ф. А. Бюлеру он с негодованием писал, что в преддверии ревизии из Санкт-Петербурга его работа в присутствии стала невыносимой. На Аксакова возложили бессмысленную работу – «очковтирательство» столичному ревизору (на что не хотели тратить время даже осуждаемые им астраханские чиновники). Будни Аксакова теперь были заняты совершенно бессодержательным заполнением пустого места в бумагах:
«У нас в настольных реестрах слишком много белого места, надо исписать, непременно исписать, а то министр подумает, что мы ничего не делаем»… – говорит мне вчера ст<атский> сов<етник>, двора его и<мператорского> в<еличества> камергер, состоящий за обер-прокурорским столом Ханыков, глупое полено258.
Из других писем Аксакова видно, что вызывавшая раздражение сенатская нервотрепка по поводу предстоящей ревизии отвлекала его от поэтических трудов. Стихи Ивана Аксакова, до того известные лишь людям его круга, с начала 1845 года стали публиковаться259. Аксаков снискал похвалу Н. В. Гоголя, который с одобрением отозвался о гражданском пафосе молодого поэта: «В юноше виден талант решительный, стремление приспособить поэзию к делу и к законному влиянию на текущие современные события»260.
Этот отзыв Гоголь дал на стихотворение Аксакова, заканчивающееся словами горького сожаления о том, что исполнение гражданской мечты недоступно для его современников:
А сколько прежде поколенийЖдет вновь неправедность судьбы,И бремя тяжкое стремлений,И оскорбительность явлений,И безутешныя борьбы!261 (Курсив мой. – Т. Б.)Отметим «оскорбительность явлений» как важное понятие для понимания мотивации Аксакова как чиновника-правоведа. Чрезвычайно деятельный идеалист, как впоследствии охарактеризует его супруга, Аксаков всерьез воспринял воспитательные задачи отечественного «правоведения». По мысли Сперанского, в отличие от отвлеченной юриспруденции, русский аналог этого понятия – «правоведение» – подразумевал возвышение закона в практике судов, то есть последовательное правоприменение.
Аксаков стал самым ревностным исполнителем этой идеи. Письма родным молодого чиновника пестрели упоминаниями о систематическом изучении Свода законов и успехах его применения во время ревизии и в дальнейшей судебной деятельности. Протекции именно по судебной линии стал просить Аксаков у товарищей-правоведов, когда разочаровался в своей сенатской «бумажной» службе. Благодаря их помощи в 1847 году Аксаков получил назначение в Калужскую уголовную палату.
Но реалии судопроизводства, убогость и «животная жизнь» служителей закона как в провинции, так и в столицах постепенно лишали Аксакова надежды, рожденной в стенах Училища правоведения. В письмах наиболее близким однокашникам он откровенно говорил о том, что изменил взгляды на суть службы и должен переменить вектор своего служения. От следования букве закона он решил отойти, чтобы руководствоваться лишь голосом совести. Еще со времен написания своего дипломного сочинения в Училище правоведения Аксаков подчеркивал значение нравственного закона, нарушение которого «оскорбляло общественное сознание и чувство правосудия граждан»262. Поэтому суд в сознании юного правоведа был «объективной силой» правосудия, защитником «общественной безопасности», который мог судить за преступления, неизвестные закону.
Эти взгляды Аксакова опирались на поэтические представления о праве и справедливости любимых им еще с юности немецких поэтов-романтиков Гейне, Шиллера и Гете, чьи лирические герои смело вступали в бой с несправедливостью, даже если она была освящена авторитетом закона. Воздействие бунтарского потенциала немецкого романтизма пытались пресечь в России разного рода запретами. Пьесы Шиллера не пропускались театральной цензурой263, а в Училище правоведения преподавателю немецкой словесности было запрещено упоминать о «Фаусте» Гете, о чем вспоминали И. С. Аксаков и К. П. Победоносцев в переписке264. Однако запретный плод, как известно, гораздо слаще: вдохновленный поэтической доктриной Шиллера «восстановления человека в его неотъемлемых правах» (Wiederherstellung des Menschen In seine unverlierbaren Rechte)265, Аксаков хотел действовать.
В письме своему товарищу Д. А. Оболенскому он писал:
Я решительно убеждаюсь, что на службе можно приносить только две пользы: 1) отрицательную, т. е. не брать взятки, 2) частную, и только тогда, когда позволишь себе нарушить закон. Что проку, что закон соблюдается, когда это соблюдение закона не уничтожает зла, не вознаграждает невинность266.
Месяцем позже, отвергая предложение некогда желанной прокурорской должности, он разъяснял другу Бюлеру:
…мои политические мнения получили другое направление, которому я всегда, впрочем, сочувствовал. И я не хочу принадлежать правительству, т. е. тому, от чего терпит Россия267.
Общую пользу Аксаков видел теперь только в общественной деятельности, направленной на изменение системы. В этом намерении его окрыляло поощрение Гоголя. Молодой Аксаков готов был «вооружаться» всеми своими талантами, чтобы, говоря словами Гоголя, «законно влиять на текущие современные события». Ревностная служба закону привела правоведа-Аксакова к необходимости пересмотреть роль образованного класса. Теперь он хотел не только утверждать законный порядок, но и «законно влиять» на настоящее. Так, освободившись от честолюбивых карьерных мечтаний, Аксаков направил свое внимание на более правильные, с его точки зрения, пути достижения позитивных изменений.
Аксаков надеялся, что в должности председателя Калужской уголовной палаты у него будет больше времени на литературную деятельность, а также что в скором времени он сможет выйти в отставку. Однако, будучи человеком ответственным, он самым активным образом включился в работу Уголовной палаты, хоть и не оставил идею покинуть службу. С большим удовольствием отмечал Аксаков в письмах к родным в 1847 году, как достойно он вел себя перед лицом надвигающейся ревизии столичного сенатора. В отличие от перетрусившего председателя Калужской уголовной палаты, ленивого картежника, Аксаков держался уверенно и не делал никаких распоряжений перед ревизией. В письмах родным он писал, что не боится ревизии, потому что «разрешение дел производится мною самым добросовестным образом и между тем довольно быстро. …часто приходится из пяти или шести томов (Свода законов. – Т. Б.) выбирать статьи для какого-нибудь незначительного решения»268.
Даже презирая службу как таковую, называя ее «подлой», правовед Аксаков продолжал быть идеальным чиновником, в руках которого пятнадцатитомный Свод законов был средством утверждения законного порядка. Он с удовольствием отмечал, что новое Уголовное уложение, несмотря на тяжеловесность языка, позволяет судье выносить более справедливые решения. Оно требует от судей гораздо большей ответственности:
Наказания очень строги, но зато судья имеет право принимать в соображение даже нравственные побуждения преступника, как то: бедность, сильное оскорбление и множество других. Конечно, это подает повод к большим злоупотреблениям. Между тем, как я рад этому, ибо звание судьи возвышается, от него требуется глубокое понимание человека, он не простой исполнитель буквы, по духу этих законов ему дается довольно большое поприще для толкования обстоятельств, – вероятно, другой плут, уездный судья, начнет делать такие толкования и рассуждения, что невольно пожалеешь о данном ему произволе269.
Осознавая собственное профессиональное превосходство и высокий уровень нравственных притязаний, столичный правовед с нескрываемым презрением относился к уездным судьям в Астрахани и судебным служителям в Калуге. Вполне вероятно, они заслужили это в том числе и своей неприемлемой для Аксакова безответственностью. В письмах родным он постоянно жаловался на то, как его коллеги по Калужской уголовной палате уклоняются от действий и решений. Так же как в Астрахани, калужские чиновники не только плохо знали законы, но даже не стремились их узнать. Они проявляли неуместные, по мнению Аксакова, неторопливость и мягкость270 и довольствовались умением составлять отчетные документы о своей деятельности. В итоге местные суды, в том виде, как это было представлено в их отчетах, частично соответствовали требованиям закона. Для центральных властей вполне умело создавалось впечатление, будто чиновники на местах в целом знают и исполняют закон.
В своей пьесе Аксаков показывал, что за преступным уклонением от настоящих решений стоит некая «вековая мудрость», которую он стремился разоблачить. От ее лица выступал Семен Иванович Посошков, герой с говорящей фамилией, 57 лет, из военных, который уже 17 лет служил заседателем. С ним спорил дворянин следующего поколения – годящийся ему в сыновья 30-летний Алексей Александрович Жабин, отставной капитан, одетый по последней моде. (При этом оба они, в свете рассматривавшейся в первой главе записки Сперанского о преобладании военного начала над гражданским в управлении, были представителями как раз военного начала.) Почему старшего из них, человека «старого покроя», Аксаков назвал Посошковым?
В сочинении «О скудости и богатстве» (1724) Иван Тихонович Посошков настаивал, что над судом людским стоит суд Божий. Понимание собственной греховной природы должно удерживать судей от слишком жестоких приговоров. В пьесе Аксакова эта мысль в устах персонажей выхолащивалась до якобы богоугодного уклонения от своего решения по делу под предлогом, что от них «ничего не зависит». Так, опытный заседатель Посошков советовал молодому и амбициозному дворянскому заседателю Жабину больше доверять системе и подписывать приговоры не читая: