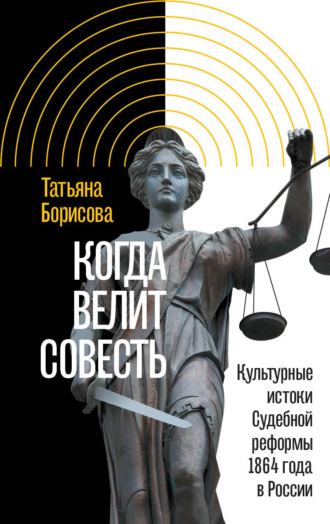
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
Само перечисление должностей показывает, как успешно продвигался выпускник Училища правоведения И. С. Аксаков по служебной лестнице, и подтверждает, что автор вполне компетентен изображать российский суд.
Исследователи считают, что основу для написания пьесы составил судебный опыт Аксакова в Калужской уголовной палате, где он служил заместителем председателя с 1845 по 1847 год203. Представляется, что это мнение верно лишь отчасти204. Его односторонность связана с тем, что до сегодняшнего дня оставался неисследованным интереснейший исторический источник, в котором Аксаков подробно описал недостатки двух провинциальных судебных учреждений. Это сохранившиеся в Рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН ревизорские отчеты Аксакова о деятельности Уездного и Земского судов Астраханской губернии 1844 года205. В них можно обнаружить, как молодой правовед изобличал провинциальное правосудие и какие меры предлагал к его исправлению206. Выйдя в отставку, в своей сатирической пьесе Аксаков посмеялся в том числе и над своими юношескими представлениями о том, что управленческими мерами можно исправить недостатки суда.
Долгие месяцы ревизии Астраханской губернии вдали от привычного комфорта столичной или московской жизни стали для молодого Аксакова временем развития его взглядов на российское правосудие и пути его исправления/реформирования. Не последнюю роль в этом сыграли важные в его судьбе встречи, состоявшиеся во время ревизии. Так, в лице руководителя ревизии сенатора князя Павла Петровича Гагарина, высокопоставленного чиновника и искусного царедворца, будущего архитектора Судебной реформы, молодой Аксаков нашел покровителя, на участие которого мог рассчитывать. Племянник князя Гагарина князь Дмитрий Александрович Оболенский (1822–1881), товарищ Аксакова по учебе в Училище правоведения, стал его надежным другом на всю жизнь. Их роднило то, что Оболенский назвал в своих записках своим «похвальным свойством», – любовь к правде и ненависть ко лжи, которые Бог дал ему как «какой-то инстинкт»207. И Аксаков, и Оболенский во время ревизии в Астрахани по службе сталкивались с многочисленными случаями лжи и лицемерия, что стало первым испытанием для молодых «служителей правды».
Ревизорские отчеты Аксакова, для написания которых он создал особую систему, должны были фиксировать и исправлять неправду судопроизводства. Своеобразным мерилом правды выступал Свод законов, уже девять лет действовавший в империи. В отчетах о ревизии 1844 года, предназначенных лично сенатору Гагарину, Аксаков показывал себя амбициозным чиновником-правоведом, настоящим знатоком Свода. Как он хвалился родным, во время ревизии ему пришлось стать экспертом по работе с пятнадцатитомным Сводом. По собственным словам Аксакова, он «как ищейка» выявлял в астраханских судах многочисленные нарушения статей Свода.
В «Судебных сценах» он также обильно приводил ссылки на Свод законов. Они сопровождали речи и приговоры вымышленных героев и были совершенно корректными. Представляется, что подобная дотошность была частью усилий Аксакова, который хотел предельно правдиво представить картины судопроизводства за закрытыми дверями.
Так же, в подробностях, ревизор-постановщик Аксаков разъяснял, как максимально достоверно показать на сцене все составные части судебного учреждения. Расположив в центре сцены присутственную комнату палаты уголовного суда, он разместил сбоку стеклянные двери в канцелярию, откуда
канцеляристы то и дело заглядывают в Присутствие, слегка приподнимая небольшие занавески… На противоположной стороне также дверь с надписью: Архив. Она ведет в архивную комнату, где висят вице-мундиры членов, надеваемые ими для присутствия в Палате. По стенам стоят шкафы, висят: зеркала, портрет государя, часы. Против дверей канцелярии, ближе к архивной комнате, стоит большой присутственный стол, покрытый красным сукном, с зерцалом, на столе чернильницы, звонки, бумаги, дела, Московские ведомости, словом, все, как следует. На одном конце стола председательское кресло с золочеными ручками; по сторонам кресла красного дерева. Подле дверей канцелярии небольшой столик, покрытый красным сукном: это столик секретаря (курсив мой. – Т. Б.)208.
Слово «присутствие» Аксаков выделил специально, чтобы подчеркнуть его богатое семантическое наполнение. Д. Я. Калугин209 показал, что уже у А. Н. Радищева понятие «присутствие» получило некоторое политическое значение. Помимо традиционного названия места, где идет решение дел (пришел в присутствие), Радищев подчеркивал появление в этом понятии режима отношений с другим человеком – то есть присутствие другого. Подробно описывая обстановку суда для другого – зрителя, Аксаков стремился не только создать эффект присутствия в судебном присутствии. Он отдельно во введении к пьесе подчеркивал реалистичность происходящего, основанную на истинности, документальности своего свидетельства:
эти сцены, как верная докладная записка, имеют все грустное достоинство истины, все печальное значение действительного факта210.
Дальше он повторял, что пьеса должна иметь «смысл обличительного современного документа». Тем самым Аксаков показывал, что его пьеса претендует на то же высокое значение, что и государственные бумаги. Получается, что своей постановкой реалистичных судебных сцен Аксаков приглашал публику стать «этическим ревизором» того суда, настоящим ревизором и «начальником» которого ранее был он сам. Аксаков-ревизор, а позднее и Аксаков-драматург в деталях доказывал, что судопроизводство России настоятельно требует пересмотра.
По своей нацеленности на обнажение пороков судопроизводства пьеса Аксакова продолжала пафос известной пьесы В. В. Капниста. Комедия «Ябеда» (1798) была известна как замечательный образец критики211 незаконного и бессовестного лихоимства судей. Представляется, что цензура пропустила ее по двум причинам (помимо связей Капниста в столице и его позиции члена Дирекции императорских театров и цензора). Во-первых, Капнист не только снабдил свою едкую сатиру посвящением императору Павлу I, в котором указывал возможным критикам публикуемой комедии, что, обнажив пороки суда, будет невредим под щитом монарха. Во-вторых, в одном из явлений комедии устами единственного честного судьи утверждалась столичная проекция саботажа корыстными судьями на местах справедливого царского закона, уже известная нам из первой главы. В пьесе не раз упоминались петровское Зерцало и намерение «вселить» новые души в подданных, приписываемое Екатерине:
В зерцало взглянь судов: Петра черты священныБезмездно там велят по истине судить;Божествен суд таков! Да где судей найтить?Закон старается вселить в нас души новы,Навычки умягчить развратны и суровы,Ко бескорыстию желание вперить,И с правдою судей сколь можно примирить;Наградою их льстит и казнью угрожает;Но против ябеды ничто не помогает212.Обличительный пафос «Ябеды» в целом был направлен на личные пороки действующих лиц комедии. Как подчеркивала исследовавшая российский театр XVIII века Элиза Виртшафтер213, российские драматурги в те годы активно включились в просвещенческую программу императорской власти по переработке старых форм допетровской жизни. «Преображение» холопа московского царя в морально автономного, на европейский лад образованного подданного, истинного сына (или дочери) отечества было главной педагогической целью театральных представлений XVIII века. Основная задача утверждения общественного блага сводилась к «преображению» или правильному развитию личности, а не к изменению социально-политических структур.
В XIX веке эта традиция изменилась. Под воздействием значимых мировых событий и новых человеческих знаний трансформировались представления об отношении образованных подданных к государственным учреждениям214. Посыл пьесы Аксакова существенно отличался от обличительного пафоса «Ябеды». В ней были показаны уже не личные пороки, а несправедливое устройство системы. Подобное изображение суда перед публикой развивало те же идеи, которые Аксаков высказывал ранее как чиновник-ревизор и как заместитель председателя суда в Калуге. Если Аксаков в самом начале своего пути в 1845 году отделял государство-систему от общества и считал, что против системы нужно вооружаться, то какую роль он отводил суду в действительном и желаемом государстве?
Реальный суд и суд на сцене: контрасты
Если сопоставлять ревизорские отчеты Аксакова о реальном суде в Астрахани и его пьесу о вымышленном суде, то в первую очередь можно заметить внешнюю качественную разницу между ними – контраст захолустья и «приличного» суда. Молодой правовед писал родным из Астрахани, что картины убогой провинциальной жизни напоминали ему строки из Гоголя. Не только бедность, плохая пища и скверные бытовые условия бросались в глаза молодому чиновнику. Особо он отмечал ничтожность и ограниченность интересов местных жителей:
Удивительно, право, как люди могут жить покойно и счастливо в такой глуши, безо всяких интересов, или с такими мелкими интересами, в такой грязной жизни, что жалко, просто жалко. …Нет уж, я в уездном городе ни жить, ни служить никогда не намерен215.
Возможно, такое неприятие провинциальной жизни у амбициозного правоведа Ивана Аксакова вызвал контраст с его прежней службой. До своего назначения в ревизорскую комиссию Гагарина он был занят в весьма амбициозном и новаторском проекте. Как чиновник Сената он принял участие в комиссии молодого реформатора Николая Милютина по составлению нового городового положения (было принято в 1846 году для столиц и Одессы)216, в котором отчетливо присутствовал реформаторский дух – новые представления об ответственном самостоятельном участии подданных в управлении217. Этот дух, казалось, был совершенно чужд тем реалиям, которые застал Аксаков в Астрахани. Даже модная круглая шляпа, которую он носил в столице, в глухой провинции выглядела нелепо, о чем Аксаков сообщал родным: из‑за того что носить ее было «неудобно», она была заменена на фуражку.
Тем примечательнее, что в «Судебных сценах» он изобразил совсем другую обстановку суда более высокой ступени – губернского – и не столь далеко расположенного от столицы. И Калужский губернский суд в 180 километрах от Москвы действительно мог стать прототипом суда из пьесы, так как жизнь в Калуге была не так далека от московских реалий и не похожа на уездную глушь. Прибыв туда в 1845 году, Аксаков даже обзавелся приличной для передового человека обстановкой. Так, в письме родным он сообщал, что приобрел у итальянца бюсты Шиллера, Гейне и Наполеона218. Суд в таком продвинутом месте тоже был вполне приличным, а не простодушно запущенным, как в далекой Астрахани. Что же он собой представлял?
Этот хорошо обустроенный суд кардинально отличался от стесненного и беспорядочного судебного пространства в Астрахани. В специальном разделе «Внешнее устройство суда» своего ревизорского отчета Аксаков указывал на следующие нарушения закона в Уездном суде:
Комната присутствия так тесна, что в ней не устанавливается стол для протоколиста, как предписывается 49 ст. 2 тома Учрежд. Губерний издания 1842 г. Отдельной прихожей нет, но вход с лестницы прямо в комнату, где помещается гражданское Отделение канцелярии. Столы в канцелярии не только не покрыты сукном, но не имеют даже замков на ящиках, в противность 65 ст. 2 тома Свода законов219.
Напротив, в пьесе устами основных героев Аксаков несколько раз подчеркивал, как хорошо устроено присутственное место – «чисто и опрятно». Аккуратность и внешний порядок присутствовали и в бумагах суда, о чем не без удовольствия говорил председатель суда. Из его слов следовало, что и у министра, и у губернатора его уголовная палата на хорошем счету. Вслед за председателем и сами заседатели благодушно считали, что служат «честно».
Эту так называемую честность подчеркивал Аксаков, когда писал во введении к пьесе, что стремился изобразить не вопиющие злодейства, а обыкновенную жизнь суда, которая может показаться зрителям только «смешной и пошлой». Поэтому в пьесе «выставлены даже не взяточники, а люди „честные“ и даже добрые», готовые принять и простить
грехи, которые чествуются «грешками»; те пороки, которые извиняются легко, уживаются с снисходительною совестью, живут рядом с хорошими свойствами души, принимают даже какую-то вполне искреннюю, добродушную физиономию, убаюкивают самое сознание какою-то особенною простосердечною логикою220.
Простосердечное беззаконие Аксаков встретил впервые именно в убогих астраханских судах. Приступив к своим обязанностям со всей серьезностью, молодой правовед был поражен наивной безответственностью чиновников ревизуемых учреждений221. В письме родным 22 января 1844 года он писал, что в судебных учреждениях наиболее возмутительными являются не убогость понятий о законах и беспорядок в делах, а несознательность чиновников:
В здешнем суде нашли мы такое наивное невежество законов и служебного порядка, что члены «оного» не только не умели приготовиться к прибытию ревизора, но даже и в оправдание свое приводят то, чего не скажет и последний писарь в сенате. Видно они воображали, что земский суд такое место, которому сам бог покровительствует, а городок их такой городок, от которого хоть три ночи скачи, ни до какого государства не доскачешь222.
Как должны были подготовиться к ревизии чиновники? Их отчетные документы и разные книги учета движения дел должны были быть в порядке – именно на них концентрировали внимание проверяющие. Это было известной практикой, поскольку начиная с 1722 года сенаторские ревизии стали важным элементом контроля правильности исполнения законов чиновниками на местах223.
Сенаторская ревизия П. П. Гагарина отличалась явной воспитательно-исправительной задачей, чем она и импонировала правоведу Аксакову. Он с гордостью писал, что комиссия Гагарина работала не только с отчетными документами, как другие ревизии. Напротив, прямо в присутственном месте поднимались все текущие «дела, бумаги, производства за три года»224. Польза от подобных действий виделась Аксакову в том, что местные чиновники сразу могли понять, как исправить свои упущения, а сенатор получал данные о том, где требуется изменение закона. Именно так, в представлении правоведов, должно было осуществляться правильное принуждение к исполнению законов и исправлению нарушений. Исследовавший карьерные траектории правоведов Р. Уортман отмечал, что ревизии были единственным служебным занятием, которое приносило выпускникам Училища удовлетворение225. Как мы видим на примере Аксакова, причины этого ясны: правоведы получали возможность реализовать свою миссию и восстановить законный порядок, возвысив закон и «правду». Современные Аксакову практики ревизоров противопоставлялись негласной деятельности политической полиции, также следившей за законностью и порядком со времени учреждения Третьего отделения в 1826 году226.
Но энтузиазм и серьезность ревизоров натолкнулись на «пренаивные», как писал Аксаков, отговорки проверяемых чиновников. Они как будто ничего и не стыдились и всему находили простые оправдания. Чаще всего ревизор фиксировал в своем отчете, что чиновники перекладывали ответственность за нарушения на своих уже отсутствующих коллег. Так, в уездном суде козлом отпущения оказался столоначальник Никитин: «Все беспорядки за прежнее время приписывают они бывшему столоначальнику Никитину, отданному за дурное поведение в солдаты»227. Этого же Никитина вспомнили сослуживцы и тогда, когда Аксаков обнаружил отсутствие дел в архиве уездного суда:
Причины тому настоящим членам не известны, а всему виною поставляются: прежняя беспорядочность дел и беспечность столоначальников, из коих один, Никитин, отдан в солдаты228.
В земском суде виноватым во всех нарушениях оказывался умерший столоначальник Федоров, причем нелепость229 такой безответственности Аксаков передавал закавыченной им прямой речью членов суда:
дело… оказалось вовсе не доложенным присутствию, что земский суд приписывает вине бывшего столоначальника Федотова, «который, заложив оное в решенные дела, впал в болезнь и умер»230.
В целом в отчете Аксакова сотрудники земского суда и стоящего над ним уездного суда представляли собой самое жалкое зрелище. Низший земский суд особенно поразил молодого столичного правоведа. В заключение своего отчета о ревизии он писал:
Недостаток участия к службе, плохое знание законов, непонимание важности своих обязанностей делают членов Земского суда совершенно к должности приставов не способными. Что касается до исправника, то хотя у него есть много усердия, и он более всех работает, но ряд несчастий поразивших Земский суд, в лице столоначальников Кумакова, Федотова и Федорова, не сдавших свои дела, пьяные канцелярские служители, оставление архива без разбора, чрезвычайно затрудняют его и запутывают более и более, несмотря на прилежное сотрудничество непременного члена Шарапова. Почему я полагал бы назначить комиссию для приведения старых дел в порядок. И частыми ревизиями и строгим наблюдением содержать ведение книг и отчетности по делопроизводству в порядке231.
Если для устранения недостатков в работе низшего суда Аксаков полагал достаточной мерой усиление мер контроля, то для более высокой инстанции, уездного суда, требовались иные меры. Проблемы уездного суда были также связаны с кадрами, но тут исправить ситуацию одними проверками было невозможно. Так, например, судья Копытовский был вполне готов к проверкам. Аксаков констатировал, что судья
радеет не для общей пользы в делах службы, нежели о собственной чистке. Для чего часто недобросовестно отсылает он такие дела назад, которые необходимо должны были быть приняты, и это потому что б к концу года можно было показать меньшее число нумеров. В этом он сам мне сознавался и письменно, и словесно232.
Все остальные судебные чиновники, за редким исключением, по разным причинам не были способны к исполнению возложенных на них обязанностей. Судебные заседатели от сословий,
как люди не опытные и не знающие, подчинены влиянию судьи. Секретарь человек молодой с малыми способностями и совершенно не сведущий. …Столоначальник гражданский Алексеев человек способный и усердный, но он, будучи один и не имея способного писца, мало успевает. Должность уголовного столоначальника остается пока праздной, заменить его некем. Писцы же большею частью нетрезвого поведения, совершенно безграмотны и ленивы. Ни один из них не годится в помощники столоначальникам233.
Совсем другой вид имел суд в воображаемой губернской уголовной палате в пьесе. В нем как будто целенаправленно драматургом Аксаковым были исправлены все недостатки судопроизводства, вскрытые ревизором Аксаковым в далеких астраханских судах. Никто из судебных служителей не показан пьяным или неспособным к службе. Дела идут настолько хорошо, что председатель не стесняется поделиться с коллегами фантазией о том, что сам император мог бы посетить палату. К его возможному визиту нужно только подновить портрет в соответствии с изменениями царской наружности – подрисовать монарху усы.
Аксаков показывал, что порядок в Палате был результатом постоянных забот хорошего и сведущего секретаря, которого как раз не было в суде в Астрахани. Можно сказать, что секретарь в «Судебных сценах» – настоящий мотор работы судебной палаты, по сути, воплощенный замысел Сперанского: знающий Свод и благовоспитанный делопроизводитель-правовед направляет в правильное русло решения малосведущих судей. Именно так, на первый взгляд, и работает суд в пьесе Аксакова.
Композиционно пьеса построена вокруг работы судей в присутствии, которая начинается тогда, когда во втором действии приехавший первым судья переодевается в судейский мундир. В последнем явлении все судьи, снова переодевшись, покидают суд. Но еще до того, как судьи пожалуют в суд и облачатся в мундиры, в первом явлении драматург показывает зрителями настоящие ключевые фигуры судебного процесса, без которых судопроизводства не было бы. Это секретарь, который готовит все решения суда и ведет его работу, и арестанты, приведенные для оглашения приговора еще утром и ожидающие своей участи. «Три человека, да две женщины, одна с ребенком», – докладывает секретарю вахмистр. Все дальнейшее действие происходит на фоне ожидания арестантов, приговоры им будут оглашены только в конце пьесы. Секретарь, студент юридического факультета, который готовит все приговоры и вписывает наказания карандашом, не без сочувствия говорит приведшему арестантов вахмистру: «Ну, пусть ждут, делать нечего…»234.
Приговоры, подготовленные секретарем, не могли выноситься без заседателей от дворян и купцов, возглавляемых председателем. Со второго действия они по очереди появляются на сцене, переодеваются в мундиры и начинают свою работу, заключающуюся в том, чтобы подписывать подготовленные приговоры и заполнять журналы. Рутинные разговоры прерываются неожиданным визитом помещика Жомова, дело которого должен решить суд.
Суд благородного сословия
В «Судебных сценах» представлены все ключевые сословия: дворяне, купцы и крестьяне. Священнослужители присутствуют неявно, только при упоминании церковного покаяния, назначаемого по закону. Надев судейские мундиры, члены суда не теряют своих типических характеристик, которые были нужны Аксакову, чтобы показать социально-экономическое измерение проблемы справедливого правосудия. И здесь в изображении суда Аксаков интересно расставил сословные акценты. Все присутствующие на сцене судьи, кроме одного, – дворяне. Стараниями председателя суда – богатого помещика и любителя светских мероприятий – комната украшена зеркалами. В них, а не в Зерцало закона на столе, с удовольствием глядятся сам председатель суда и его знакомый, «приятнейший человек», полковник и помещик Жомов. Он является в суд уладить свои дела и восклицает:
Да здесь просто барская гостиная, а не Палата!.. Какая тут Палата. Вы меня извините: я человек военный, у меня что в мыслях, то и на языке, ха, ха! Я вам по правде признаюсь, господа, я ведь полагал, что здесь такой же, с позволения сказать, хе, хе, хе! такой же коровий хлев, как и в нашем Уездном Суде, хе, хе, хе! ей богу235.
Далее в репликах Жомова продолжает развиваться тема «настоящего дворянского суда достойных судей»:
Да ведь мне только и утешения, что на благородных людей напал! Ну, думаю, пошло дело в Палату, слава тебе, Господи, не много уж там возьмут мои злодеи-то!.. Тут ведь, думаю, столбовые дворяне сидят, не на ваш подлый аршин меряют. Ведь вот господа, вы теперь и сами видите: дело-то ведь выеденного яйца не стоит, а вон в какую гору раздули! (Жомова обвиняли в трех преступлениях. – Т. Б.)236
Затем он поясняет, что все дело инициировал против него становой пристав, который требовал 500 рублей, чтобы дело закрыть. Поддерживая негодование благородного подсудимого, судьи интересуются, как обстоят дела с обвинением против Жомова его гувернантки, которую он жестоко высек, как и своего крестьянина Антошку.
Жомов не скрывает, что как человек военный был увлечен гувернанткой: ведь все военные – «ходоки». На что судьи со смехом отвечают, что им такие увлечения знакомы. Только судья от купечества Вахрамеев, прикрывшись газетой, не смеется и даже плюет с негодованием, когда дворяне обсуждают привычные подвиги по женской части в деревнях.
Но самую яркую речь о дворянской правде Жомов произносит по поводу жестокого сечения своего крестьянина Антошки:
Жомов: Нет, вы мне скажите, властен я, что ли, над своим мужиком или нет? а?.. Барин ли я или нет? а? Помилуйте, что это такое! Как, я 20 лет служил царю и отечеству верой и правдой, а тут уж и холопа тронуть не смей! Да это, это я и не знаю что! Это света преставление просто! Вы меня извините, господа, а уж я этого и стерпеть не в силах! Умирать стану, а говорить буду! Может быть, нынче уж так меж дворянами повелось; может, и вы так рассуждаете?..
Председатель: Нет, нет, мы сами дворяне, как дворянство не уважать!
Жомов: Конечно, помилуйте! Опора престола!.. Как же тут становому в помещичьи дела рыло свое совать? Ведь это бунт! Ведь это значит священнейшие обязанности колебать?.. я ведь за вас же, господа, ратую!.. Мне что… меня, может, за мою правду-то вы и в Сибирь сошлете… хе, хе, хе! может, еще и в каторгу…237.
Шутка про каторгу вызывает бурный смех всех дворянских судей. Только заседатель от купеческого сословия, который патриархально крестится всякий раз перед тем, как поставить свою подпись на приговоре, не разделяет шумного веселья. Аксаков настойчиво подчеркивает напряжение, существующее между дворянами – председателем уголовной палаты и двумя заседателями от дворянства – и заседателем от купечества Иваном Фомичом Вахрамеевым. Подчеркивая отличие этого персонажа от других, Аксаков выделяет его даже внешне, снабжая окладистой бородой в описании действующих лиц.
Купец Вахрамеев, в отличие от дворянских судей, не болтает с другими, подписывая бумаги. В присутственном месте он читает газету и временами тихо уходит по своим делам. Аксаков показывает, что своим сидением в палате купец рассчитывает повысить свой социальный статус, о чем напоминает председателю: «Хоть бы медальку-то по крайности повесили»238. Но его тут же одергивают коллеги-дворяне, подтрунивая: «Вы зато из чести служите, ха, ха, ха!» Председатель же подсказывает Вахрамееву, каким путем быстрее добиться желаемого239: «Ты пожертвуй эдак покрупнее да повиднее… ну, да 3000 рублей примерно, хоть на устройство присутственных мест… будет тебе медаль!»




