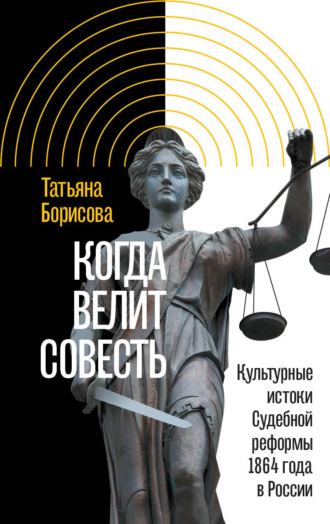
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
Обещание кар будущим «служителям правды» за всевозможные проступки показывает, как работало специфическое воспитание правоведов. Их будущая роль изначально выходила за рамки точного исполнения законов, как этого по-прежнему требовало от всех судейских чиновников петровское Зерцало. Как будет показано в следующей главе, правоведы стали видеть себя деятелями «общественной безопасности» и защитниками «общественного правосудия». Так, на практике стали реализовываться идеи Сперанского о необходимом переходе к «гражданскому образу» правления. Этический модус этого перехода был продолжением традиции морализаторства в судебной сфере, начатой в петровское правление. Она, с одной стороны, подразумевала обличение корыстных судейских чиновников, а с другой, стремилась приспособить понятия подданных о правде и совести для государственных нужд.
Однако опора власти на этические понятия таила в себе определенные опасности, нараставшие по мере просвещения подданных. Их корень был в том, что совесть как «способность души судить»169 была вне юрисдикции государственных законов. Как будет показано в третьей главе, язык, которым говорили о совести, был языком культуры, в XIX веке наиболее мощно проявившей себя в сфере литературы. Художественные образы и вызываемые ими чувства читателей развивались согласно своей логике, не связанной с государственным интересом. В следующей главе на примере необычной карьеры правоведа-публициста И. С. Аксакова будет показано, какие изменения привнесли «защитники правды» в судопроизводство, которое устойчиво представлялось как сфера беззакония и произвола.
Глава 2
Ревизор-постановщик И. С. Аксаков: закон versus совесть
В своей известной книге Олег Хархордин показал, как обличение стало инструментом для выковывания личности советского человека170. Он ясно обозначил связь большевистской публичной «работы над собой » с православной традицией покаяния. Однако если подробнее рассмотреть опыт российской публичной сферы XIX века, то можно увидеть, что многие революционные практики большевиков, которые давно уже сравнивают с практиками разных религиозных сект171, выросли из публичного морализаторства периода Великих реформ. Суд над личностью и средой, породившей преступление, является важным и еще не исследованным этапом публичного переосмысления взаимоотношений индивидуального и общего в стремительно модернизирующемся социуме позднеимперского периода.
Попыткам общественности осознать и справедливо оценить поведение современников, оказавшихся на скамье подсудимых, предшествовала проблематизация субъектности самих судей в общественном сознании. Процесс «рождения героя»172 сопровождался интенсивной саморефлексией, отвечавшей внешнему импульсу популярного в России с конца XVIII века немецкого романтизма173. Под ее влиянием, как показал Николай Плотников, наиболее распространенной моделью взращивания собственной личности в российском образованном классе стала творческая индивидуализация. Желание публично предъявить высокие требования к себе и к миру стало восприниматься как признак формирования «осознанной» личности.
На таких ли людей рассчитывал Сперанский, когда сетовал на недостаток образованных дворян для государственной службы как на одну из самых серьезных проблем? Сам писавший в юности роман на французском языке174, позже проектируя «образ гражданского правления» в Российской империи, он указывал на дефицит образованных людей, годных для государственной службы. Для уяснения истоков Судебной реформы важно понять, какими проектировались передовые судебные деятели и какой «образ себя» стремились создать сами правоведы.
В этой главе мы подробно остановимся на том, как противоречие между требованиями закона и совести привело молодого правоведа Ивана Сергеевича Аксакова (1823–1886) к разочарованию в государственной службе и юриспруденции, итогом чего стал переход на «другую сторону». Своему однокашнику-правоведу Ф. А. Бюлеру Аксаков писал:
Благородный чиновник, подлый чиновник, все равно, все чиновник, все жертва системы, ложной и гибельной, против которой надо вооружаться, которую надо вырвать с корнем, а не поддерживать175.
Этой цели И. С. Аксаков посвятил свой труд издателя и публициста. Этический модус переустройства русской жизни по совести стал своего рода credo Аксакова, определенно резонировавшим с идеалами его образованных современников в 1840–1860‑х годах. Практическая деятельность Аксакова по утверждению «Царства Правды»176, как он писал в своем дипломном сочинении, стала заметным явлением общественной жизни. По свидетельству его сподвижника Н. П. Гилярова-Платонова, выражение «честен, как Аксаков» было «почти пословица»177. Для этой книги важно рассмотреть подробно, как с течением времени для Аксакова силой утверждения правды стал не закон, а обличение по совести, на пути которой этот закон нередко вставал.
В галерее портретов Аксакова – издателя178, поэта, публициста, журналиста и социального философа – не хватает его четкого образа в качестве чиновника-юриста. Малоизученная179 история Аксакова как правоведа, ревизора, чиновника особых поручений и коронного судьи, которая будет рассказана в этой главе, проясняет генеалогию его обличительных идей и практик. Опыт отрезвления Аксакова от службы несправедливому сословному закону помогает понять, почему набирал популярность модус возвеличивания совести как национальной внесословной ценности, которая шире и важнее закона.
Fiat justitia et pereat mundus! 180
Да свершится правосудие и да погибнет мир! – такой эпиграф избрал для своего дипломного сочинения восемнадцатилетний Иван Сергеевич Аксаков, выпускник третьего набора Училища правоведения в 1842 году. Это сочинение, как и наследие Аксакова в целом, к которому мы еще будем обращаться в последующих главах, представляет собой яркое воплощение идей и практик поколения наиболее деятельных дворян, на деле включившихся в преобразование России с начала 1840‑х годов. Изложенные в дипломной работе воззрения Аксакова о сути правосудия, имеющемся суде и суде желанном не только дают представление о дореформенном правосудии. Они позволяют ознакомиться с генеалогией взглядов на судопроизводство тех деятелей, которые в момент проведения Судебной реформы 1864 года вышли на передний план.
Отпрыск старинного дворянского рода Иван Аксаков был сыном писателя и богатого помещика Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), владевшего 800 душами в Симбирской и Оренбургской губерниях, младшим братом известного славянофила Константина Аксакова (1817–1860) и судебного деятеля Григория Аксакова (1820–1891). По свидетельству А. Ф. Тютчевой, супруги И. С. Аксакова, в родовом гнезде Аксаковых царил особый дух просвещения. В барском доме не была выделена детская комната в качестве особого пространства, да и отдельная, обособленная от взрослых членов семьи жизнь детей под руководством педагогов не практиковалась181. Так, например, Аксаков с десятилетнего возраста читал газеты, и наказанием для него было лишение этой возможности за какую-нибудь провинность. Возможно, поэтому в Иване Аксакове рано сформировалось очень серьезное отношение к себе и своим обязанностям, которое отмечали впоследствии знавшие его люди.
В 1838 году пятнадцатилетний Аксаков стал воспитанником Училища правоведения; там же с 1836 года, то есть с первого года работы Училища, обучался и его брат Григорий. В 1842‑м он окончил Училище и представил выпускное сочинение «О характере уголовного процесса», эпиграф к которому вынесен в заглавие этой части182. Категоричность выбранного им латинского выражения примечательна: она отражала тот мессианский дух, которым проникались воспитанники Училища.
Судя по дипломному сочинению Аксакова, миссия правоведов доходчиво разъяснялась воспитанникам и глубоко укоренялась в их сознании. Однако юношеский максимализм выпускника Аксакова в ее понимании привел к некоторой односторонности его тезисов, на что и указал экзаменатор в комментариях на полях работы. Но поскольку правовед, по мысли создателей Училища, не должен быть «ученым», выказывая лишь общее правильное понимание теории применительно к российским реалиям, то его категоричность была извинительна.
Какого рода специалисты были уполномочены оценить именно практическую готовность правоведов к делопроизводству? Тут требовались как теоретическая подготовка в юриспруденции, так и опыт государственной службы. На курсе Аксакова дипломные сочинения проверял Герман Антонович Гизетти. Выпускник юридического факультета Дерптского университета, он получил степень доктора права в Кёнигсбергском университете за диссертацию «Specimen principiorum generalium juris Russiae de delictis et poenis»183. Служил в Сибири, а потом был привлечен Сперанским к работе комиссии по проверке Свода законов и к преподаванию в Училище правоведения.
Яркой чертой рассуждения Аксакова о правосудии является то внимание, которое он уделяет соотношению права и морали. Оно интересует выпускника-правоведа не только в теоретическом, но и в практическом смысле. Аксаков исходит из посылки о принципиальной разнице этих взаимосвязанных понятий. Особый интерес представляет то, что на полях рукописи Аксакова сохранились пометы и комментарии его наставника. Этот своеобразный обмен мнениями позволяет увидеть российское правосудие как глазами молодого человека, которого специально готовили к исправлению существующего суда, так и глазами образованного и опытного юриста.
Аксаков пишет, что государственные законы не должны притязать на внутреннюю жизнь человека, регулируемую законом нравственным.
Нарушение закона положительного наказывается внешнею объективною силою целого Государства, проявляющеюся в Суде. Поругание законов нравственных наказывается судом частной совести.
Но только до тех пор, пока внутренняя жизнь своими внешними проявлениями не начинает угрожать государству, – и тогда должен вмешаться суд. По мнению Аксакова, нарушение нравственного закона преступно, если оно оскорбляет «общественное сознание и чувство правосудия граждан или преступает положительный уголовный закон».
Как видим, училищные уроки «служения правде» были хорошо усвоены юным Аксаковым. Обратим внимание на такое важное понятие, как «чувство правосудия граждан». Оскорбление этого чувства, так же как и оскорбление «общественного сознания», Аксаков приравнивает к уголовным преступлениям, прописанным в положительном уголовном законе. Так, в нарушение базового принципа правосудия, Аксаков не ограничивает преступное только тем, что определено как преступное в законе. При этом в сочинении существенно возвышается значение суда: суд не только решает, нарушен ли положительный закон или нет, он может определить, нанесен ли «нравственный вред». Юный правовед представляет четкую схему уголовного судопроизводства в три этапа:
(1) посредством исследования и удостоверения в существовании преступления;
(2) взвешения – известными лицами, представителями общественного правосудия, – вреда, преступлением причиненного;
(3) произнесения и исполнения приговора, основанного или на положительном законе, или на разуме всего законодательства. Эта-то совокупность форм, законом огражденных… называется Уголовным Процессом, или Судопроизводством184.
Называя такой процесс правосудия по строгой форме закона «общественным правосудием», Аксаков противопоставлял ему опасный субъективизм судьи. Дозволяя суду судить поступки, оскорбляющие «чувство правосудия граждан», юный правовед настаивал на суде исключительно по закону. Он подчеркивал, что в деле правосудия должен править не человек, но закон:
Личность его (судьи. – Т. Б.) уничтожается, и он является орудием совершенно внешней, объективной силы, он должен остерегаться самого себя и внутреннего голоса сострадания. Он должен решать дело не по совести, а по логической силе слова самого закона…185
Рядом с данным суждением преподаватель оставил комментарий, упрекая Аксакова в односторонности и указывая на суд присяжных в Европе, «достоинство которого отвергнуть нельзя». Наставник напоминал, что присяжные в нем «сходят лишь к внутреннему убеждению – к совести»186. Действительно, помимо долгой истории суда присяжных в Англии, такой суд действовал в Германии и во Франции, на управленческие практики которых традиционно ориентировались в России. Как становится ясно из дальнейшего знакомства с текстом дипломного сочинения, в то время Аксаков выступал против суда присяжных как такового. В его представлении судья должен был только провести в жизнь требование уголовного закона:
В ясных, определенных случаях, где от преступления посылка прямая на закон, последний сам подвигается, сам карает, и участие Судьи здесь ограничено187.
В случае сомнений судья должен сам оградить себя от своеволия – «он должен остерегаться самого себя и внутреннего голоса сострадания»:
Если же ему (судье. – Т. Б.) кажется, что преступник, обвиняемый и обстоятельствами, и законами, не виноват, что преступление извинительно, что закон слишком ограничен; если его собственная природа возмущается против приговора, которому он должен подвергнуть подсудимого; – в таком случае пусть он оставит звание Судьи или сделает воззвание к общественному Правосудию в лице Верховной власти, которая разрешит его недоумения, – конечно, не по Своему произволу, но согласно с разумом законодательства и безопасностью Государства188.
Заслуживает внимания совершенная уверенность Аксакова в том, что понятие «произвол» неприменимо к верховной власти. Интересно, что юный правовед выбирает именно этот не совсем ясный термин. Под ним, безусловно, подразумевалась власть императора, но кто именно ее осуществлял – сам император или уполномоченные им органы и лица, – зависело от контекста189. Верховная власть для Аксакова – средоточие «общественного правосудия». Она действует в соответствии с правдой-справедливостью, согласно с законами и на благо государства.
Принимая идеи давней традиции соединения закона и правды в России190, выпускник-правовед приходил к любопытному пассажу, абсурдному с юридической точки зрения. Как следует из приведенной выше цитаты, Аксаков предвидел случаи, когда «преступление подсудимого доказано», но нет закона, который бы квалифицировал его деяние как преступление. По мысли выпускника-правоведа, в подобной ситуации судья должен был обратиться к Верховной власти за решением такого дела. Напротив этого суждения юного правоведа преподаватель также сделал пометку на полях: «Когда нет закона, то и судить не следовало».
Аксакова не смущало, что ход его рассуждений противоречит ключевому правовому принципу, восходящему к максиме римского права Nullum crimen, nulla poena sine lege, на которую ему указывал преподаватель. Аксаков исходил из органицистского представления о праве, согласно которому право развивается вместе с народом. Верховная власть должна отзываться на новые преступления, если они осознавались, но не были еще закреплены в положительном законе. Как видим, за фасадом слов о правде, разуме законодательства и безопасности государства развивались идеи о связи права, правды и народа. У выпускника-правоведа это новое понимание «правды» прослеживается в его словах о преступлении, еще не известном закону. Оно
не есть еще преступление, но то, что, нарушая его (нравственный закон. – Т. Б.), оскорбляет притом общественное сознание и чувство правосудия граждан191.
«Чувство правосудия граждан» должно было реализовываться через обязанность доносить. Ее Аксаков отдельно подчеркивал, говоря о динамической взаимосвязи положительного закона и нравственности:
при совершении преступления оскорбляется сознание и нарушается безопасность каждого гражданина, который обязан содействовать Правительству в уничтожении зла наказанием. Поэтому каждый обязан доносить. Но закон положительный не должен попирать закона нравственного, ибо в таком случае сам он, оскорбляя общественное мнение, теряет свою силу, авторитет и уважение и делается или ненавистным, или смешным. Поэтому закон положительный не может и не должен требовать, чтобы дети доносили на родителей, жены на мужей и т. п.192
Так, посредством доносов, реагирующих и на преступления, и на оскорбление общественного мнения, утверждалось бы «царство Правды». Чтобы положительный закон в нем соответствовал «чувству справедливости», Аксаков предлагал следующим образом информировать Высшую власть о «недостаточности законов»:
При недостаточности законов надо обращаться с представлением к Высшей власти, как выражению народного правосудия, о пояснении, отмене или постановлении нового закона. Таким образом, практика будет идти наряду с развитием законодательства193.
Преподаватель не оставил комментария по поводу данного предложения, поскольку оно вполне согласовалось с соответствующей статьей Свода законов, которая предписывала в случае неясности законов обращаться к вышестоящей власти.
Однако стройная схема, при которой судья должен был либо применять закон, либо обращаться за решением к высшей власти, все равно могла дать сбой. Аксаков предвидел ситуацию, когда следствие не располагало доказательствами против «подсудимого, по-видимому виновного», в совершении описанного в законе преступления. Выпускник-правовед считал, что при недостатке доказательств виновности было бы правильно освободить «преступника», но решение должно приниматься в зависимости «от того – нарушается ли тем общественная безопасность или нет».
И везде, где смягчение ради причин уважительных или милостивое толкование двусмысленного закона не нарушает правомерности и общественной безопасности, везде судья должен в законных пределах руководствоваться мудрыми правилами правосудного сострадания194.
«А упомянутая выше объективная сила (закона. – Т. Б.)?» – возражал преподаватель, отчеркнув последнюю фразу в приведенной цитате195. Под объективной силой имелось в виду требование следовать букве закона, с которого Аксаков начинал свое рассуждение. Действительно, до этого Аксаков порицал опасный субъективизм судьи и настаивал на том, что в его лице право действует именно как «объективная сила». Теперь он предлагал сострадать и никак не прописывал критерии нарушения «общественной безопасности».
Как видим, в голове выпускника-правоведа сложилась довольно эклектическая картина будущего служения закону и правде. Особо интересна та высокая роль, которую Аксаков отводил суду как «объективной силе» правосудия. Отвергая опасный субъективизм судьи, на деле Аксаков не только доверял судье финальное решение об оценке «общественной безопасности». Он выказывал уверенность в том, что суд может судить за преступления, неизвестные закону, и обращаться к Верховной власти с необходимостью изменять существующие законы в соответствии с «общественным сознанием».
Признавая такие большие полномочия за судьями, Аксаков решительно критиковал действующий в Европе суд присяжных и открытый состязательный процесс с участием защиты. В глазах Аксакова такие формы судопроизводства, применяемые на Западе, были крайне нежелательны в России. Особенно он возражал против института судебной защиты, на службе которой адвокат
натягивает все свое остроумие на изобретение уловок и софизмов, чтобы с честью и с блеском отстоять подсудимого: между тем, как здесь должна действовать чисто объективная сила: непричастная субъективным интересам, объективная сила, которой не следует оставаться в пассивных отношениях к частному, постороннему лицу196.
Как видим, адвокат для Аксакова был воплощением субъективного интереса подсудимого, а любой субъективный интерес должен был быть побежден объективной силой, четко изложенной в законе или ощущаемой при помощи коллективного «чувства правосудия».
Аксаков признавал, что, естественно, спор о виновности подсудимого мог возникнуть и за закрытыми дверями суда, однако считал, что он должен был решиться традиционным путем – на основании фактов и их профессиональной оценки судьями:
Конечно, и в самом суде могут возникнуть споры, один член будет защищать подсудимого, другой обвинять, но они делают это не ex officio, а основываясь на фактах, по убеждению, и как избранные представители правосудия, – по праву. Спор их должен быть разрешен или большинством голосов, или высшим правительственным местом, или Верховною властью. У нас в России нет адвокатов, и в процессах Петра Великого сказано, что они своим глагольствованием только затрудняют ход дела197.
Так же решительно молодой Аксаков выступал против гласного состязательного суда, отстаивая достоинства письменного судопроизводства:
но письменное зато… заключает в себе то преимущество, что предавая факты бумаге, сохраняет верное свидетельство и доказательство всех подробностей дела, которые при словесном могли бы забыться198.
Несколько односторонние суждения выпускника-правоведа Аксакова о распространенной на Западе форме состязательного суда показались преподавателю легковесными. Он написал на полях, что выпускник сосредоточил внимание только на ее «темной стороне».
Несмотря на критические комментарии преподавателя и предложение инспектора внести исправления, сочинение Аксакова получило высокую оценку. В нем отражался общий дух самодержавной законности николаевского царствования, усилить который с помощью самых достойных и надежных чиновников из родовитых дворян должно было Училище правоведения. Ключевыми рабочими принципами этой законности было точное исполнение закона невзирая на лица и декларируемый отказ от «субъективных воззрений». Легитимность всей системе правосудия придавала Верховная власть – то есть власть императора и учрежденных ею высших государственных органов. От Верховной власти исходили законы, на строгом основании которых судили судьи; она же должна была рассеять все возможные затруднения судьи.
При этом воспитанный служить интересам правды правовед Аксаков считал, что судьи сами могут определить общественную опасность тех или иных явлений жизни, оскорбляющих «чувства справедливости» подданных. Требование не выходить за рамки закона, по мнению выпускника-правоведа, можно было обойти, если существовала явная необходимость восстановить общественную справедливость. Нравственные суждения, следуя той же логике, могли ставиться рядом с законом в силу того, что защита правды самодержавного правления объявлялась ключевой задачей престола и подданных.
То, как юный Аксаков был готов выходить за рамки закона и действовать, руководствуясь представлениями о правде, справедливости и «общественной опасности» тех или иных явлений жизни, можно рассматривать как реализацию идей Сперанского о миссии «сословия правоведов». Однако уже через десять лет Аксаков разочаровался в возможности суда действительно служить целям «общественной справедливости». Свой опыт «служителя правды» он положил в основу сатирической пьесы, которую мы рассмотрим ниже, сопоставляя ее с другими источниками о его службе.
Аксаков как свидетель-следователь
Издательская и публицистическая деятельность И. С. Аксакова развернулась во всей полноте с 1852 года, после того как он вышел в отставку в 1851‑м. Символическую точку в своей карьере чиновника Аксаков поставил, написав яркую сатирическую пьесу «Судебные сцены, или Присутственный день Уголовной палаты» (1853). К большому раздражению автора, она долгое время не пропускалась цензурой. Это может показаться странным, поскольку начиная с высочайше одобренного для постановки в 1836 году «Ревизора» Гоголя тема сатирического изображения чиновников заняла свою нишу в российской драматургии. Она уже не встречала того осуждения, которое описывал современник первых постановок: «…общий голос, слышавшийся по всем сторонам избранной публики, был: „это – невозможность, клевета и фарс“»199. Цензор Никитенко сокрушался по поводу одобрения «Ревизора»: «…многие полагали, что правительство напрасно одобряет эту пьесу, в которой оно так жестоко порицается»200.
В пьесе Аксакова «Судебные сцены» цензоры видели важное отличие от других сатирических пьес о чиновниках201. Коллежский секретарь в отставке не ставил задачей карикатурное изображение бюрократии. Автор настаивал, что его пьеса должна была иметь «смысл обличительного современного документа», так как основывалась на его судейском опыте. Неудивительно, что ее первая публикация состоялась за границей – в Лондоне в «Полярной звезде» Герцена в 1858 году.
Такой путь к читателю, через нелегальную печать обличителя-эмигранта, усилил интенцию автора представить зрителю пьесу как документ эпохи, убеждающий в необходимости Судебной реформы. Документальная основа и, так сказать, свидетельский характер «Судебных сцен» подчеркивались даже пространным названием:
Самые достоверные записки чиновника-очевидца. Присутственный день уголовной палаты. Судебные сцены, изложенные отставным надворным советником, бывшим секретарем Правительствующего Сената, бывшим товарищем председателя Уголовной палаты, бывшим обер-секретарем Правительствующего Сената, бывшим чиновником Министерства внутренних дел202.




