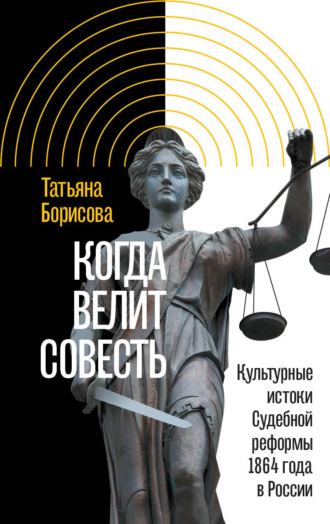
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
способные и благовоспитанные делопроизводители нужнее, нежели где-нибудь: ибо у нас нет и долго еще не будет ни ученых судей, ни ученых адвокатов. …Судьи у нас, в нижних и средних местах избираются из дворян, большею частию военных, а в высших определяются из чинов, также военных и гражданских. И нет причины изменять сей порядок, если бы изменить его и было возможно135.
Поскольку знаниями всех нужных законов судьи не обладают, то их решения готовят канцелярские служители. И если они это делают плохо, то судьи «прикрывают только собою… пристрастие или невежество». Отметим, как Сперанский в духе петровского Зерцала возлагал всю ответственность за ошибки правосудия на делопроизводителей, не применивших к делу правильный закон. При хороших делопроизводителях
судья, избранный доверием сословия, с здравым смыслом и чистою совестию, хотя и без технического знания вообще может быть полезнее, нежели судья просто ученый.
Так, по мысли Сперанского, достойные делопроизводители должны были стать своего рода технократами, опираясь на умения и навыки которых, «неученые», но совестливые и облеченные доверием дворян и властей судьи смогли бы достойно вершить правосудие. Отбор в Училище правоведения могли пройти только выходцы из потомственных дворян, чтобы вместе с равными себе, а не с разночинцами из университета, получить правильное «воспитание». «Благовоспитанные правоведы», как подчеркивал Сперанский, должны были обязательно служить по судебной части.
История Училища правоведения довольно хорошо изучена, но есть один важный вопрос, который требует внимания. Он заключается в парадоксе, который стал очевиден благодаря исследованию Ричарда Уортмана о вкладе Училища правоведения в развитие «правовой осознанности» в России в середине XIX века136. Уортман констатировал, что, безоговорочно признавая роль правоведов в утверждении «правовых начал», современники указывали, что знания выпускников Училища в области практической юриспруденции были слабыми и они испытывали большие трудности с исполнением служебных обязанностей по ведомству юстиции137. Возникает вполне правомерный вопрос: как же тогда они утверждали «правовые начала»?
Чтобы ответить на этот вопрос, обратим внимание на особый статус правоведов. Написанный Сперанским Устав училища 1833 года объявлял, что
Училище сие состоит под особенным покровительством Его Императорского Величества и именуется Императорским138.
Устав училища был формальным документом, однако указанный в нем особый статус учебного заведения и, соответственно, особая миссия правоведов стали магистральной линией их «воспитания». Так, придворный протоиерей Василий Бажанов при освящении храма Училища 23 ноября 1835 года говорил, что юные правоведы отвечают перед Богом и царем в своих стараниях стать «служителями правосудия», «служителями правды». Правда объявлялась при этом главенствующей. В служении ей, учил священник, воспитанники должны отказаться от «зыбких умозрений» «иноземного влияния». Им надлежало сначала учиться, опираясь на «основательные познания отечественных законов», а потом трудиться «с очищенными и возвышенными понятиями о важности своего долга»139.
На практике отказ от упомянутых «зыбких умозрений» заключался в том, что в отличие от университетского курса юридического образования теоретические предметы в Училище преподавались в урезанном виде, а упор делался на изучение законодательства. Устав Училища 1838 года сделал набор юридических дисциплин еще более специальным и ориентированным на отечественные законы: государственное право, гражданское право, межевые законы, уголовное право, судебная медицина и местные или провинциальные законы, законы финансовые и полицейские с предварительным изложением политической экономии и сравнительного законоведения. Сравнение с расписанием университетских кафедр показывает, что в университетах при этом читались большие теоретические курсы. Так, например, в Петербургском университете преподавали курс всеобщей теории права и методологии юридико-политических наук, а в Московском – «Начала общенародного правоведения»140.
В целом сами выпускники признавали, что их образование было основано на зубрежке, при этом «…никто из нас не читал юридических сочинений… никогда не было у нас разговоров или споров о выслушанном»141. Самый главный урок, который должны были усвоить воспитанники, заключался в том, что их миссия – восполнить потребность государства «в честных, развитых, неподкупных судебных деятелях, и Училище правоведения давало их щедрою, открытою рукою»142.
Наиболее критический отзыв о качестве образования в Училище дал единственный известный правовед-ученый, вышедший из его стен, – К. П. Победоносцев. Его текст сохранился в архиве Училища:
…многие предметы преподавались только по имени, не оставляли в головах воспитанников прочных ясных и полных сведений, а передавали только памяти несколько отрывочных слов или фактов, ничем не связанных и ни к чему не служащих143.
Примечательно, что отсутствие в учебном процессе системности не помешало Победоносцеву возвеличивать основной урок Училища правоведения, усвоенный выпускниками, – их особую миссию служить правде. Об этом он говорил в своей пламенной речи в 1860 году на празднике правоведов, спустя четверть века после создания Училища:
Разве говорили нам здесь: наслаждайтесь жизнью и таитесь, когда увидите зло и беззаконие? Ведайте бумагу и не тревожьтесь о живом человеке. Идите, доставайте себе чины и почести, поднимайтесь в верх, забирайте силу власти и ведите друг друга к власти и почести? Нет, Бог свидетель! Здесь этому не учил нас никто, и к кому из нас, может, пристала такая мысль, тот сам подобрал ее в пыли на больших дорогах жизни. Нам говорили: есть правда, и кто верно хранит ее в себе, тот честный человек и верный сын своей родины… Правда не вдохновением и даром входит в человека, она дается крепкой верой и любовью, она дается трудом, ничего не пренебрегающим, и борьбой с ложью, с ложью в целом мире и прежде всего в себе самом. Товарищи! Вспомните этот завет правды… и пусть помолодеет в нас истина144.
Обратим внимание на то, что основой экспертизы правоведов, так же как в проповеди протоиерея Бажанова, объявлялась правда. Анализ коллекции юбилейных материалов Училища правоведения показывает, что в юбилейных речах самого первого празднования в 1860 году и позже речь почти не шла о праве, суде и законе. Выступавший с заключительной речью наиболее успешный выпускник, видный сановник князь Д. А. Оболенский два раза подчеркнул, что миссия правоведов была и есть – «нравственное преобразование отечества»145.
Правда правоведов, Свод законов и «дух времени»
Трансформацию военного образа правления в гражданский, которую осуществили в 1830‑х годах, можно кратко охарактеризовать в одном предложении. Собрав разрозненные законодательные акты и объединив их в систему русского права в Своде, реформаторы снабдили книгами Свода новую корпорацию «служителей правды», дабы те укрепили гарантированный самодержавной властью законный порядок в России посреди революционных брожений на Западе.
То, каким образом закон, право, народ и правда соединились вместе в этой программе реформ, можно назвать воплощением интересного понятия, вошедшего в русский язык в первой четверти XIX века, – «дух времени». Это выражение (калька с французского l’esprit du temps) отчетливо зазвучало после победы над Наполеоном146. Одной из движущих сил кровопролитного движения народных масс на заре XIX века – вначале с Запада на Восток и затем обратно, с Востока на Запад, – стало национальное самосознание. Оно дало толчок новому самоосмыслению образованного класса, его требований к себе и к жизни вокруг.
Философы, историки, правоведы и поэты эпохи романтизма устремились на поиски национальных основ, что стало отражением разочарования идеями естественного права в том виде, в котором они проявились во время Французской революции и кровопролитной экспансии Наполеона. Стремление к рациональному, универсальному в системе общественных институтов, еще недавно популярное в ближнем круге Александра I, теперь подверглось преследованию. Именно так произошло с книгой профессора Царскосельского лицея А. П. Куницына «Право естественное», опубликованной в 1819 году. В ней учившийся в Германии кумир лицеистов утверждал среди прочего, что «в праве естественном все права и обязанности людей как разумных существ равны и одинаковы»147. Разрешенная ранее к печати, книга была быстро изъята из всех учреждений Министерства народного просвещения. «Охранители» увидели в ней вредный для юношества «пространный кодекс прав, присвояемых какому-то естественному человеку»148.
В то же время консервативная политическая теория становилась все более популярной. Ее центральными понятиями стали «традиция» и «закон» – как воплощение унаследованного от предков порядка. Профессор Берлинского университета Карл Фридрих Савиньи учил, что право, будучи воплощением народного духа (Volksgeist), есть такой же признак нации, как язык, поменять который не в силах правители149. Историческая школа правоведения Савиньи исходила из общей органической теории, основной принцип которой верно определил К. Манхейм: «…каждый данный исторический образ не может быть сделан, он, подобно растению, вырастает из некоего внутреннего центра»150. Во многом эта идеология выкристаллизовалась путем очищения от «вредных» идей Просветителей, начертанных на знаменах бунтовщиков 1789 года. Как писал британский идеолог консерватизма Эдмунд Берк, суть Французской революции сводилась к «осквернению собственности, закона и религии как единого целого» (violation of property, law, religion united in one object)151.
В представлении консерваторов, «законная монархия», напротив, должна была покоиться на «огромном наследственном богатстве и достоинстве нации» (the great hereditary wealth and hereditary dignity of a nation)152. Под абстрактными понятиями «богатство» и «достоинство» подразумевались обладатели капитала и знать. Их проверенная временем сила должна была оставаться основой легитимной монархии. Теперь, чтобы удерживать свои позиции блюстителей законности в «легитимной монархии», они искали и находили такие национальные/народные традиции сложившегося порядка, которые можно было противопоставить крамольным представлениям о всеобщих естественных правах людей. Так же как и история, право народа, будучи зримым свидетельством национального своеобразия, стало восприниматься как основа культурной самобытности.
В России идеи о нации и законности легитимной монархии питались из европейского круга чтения. Развивая их на российском материале, Н. М. Карамзин в своей «Истории государства Российского» представил опыт изобретения национальной государственности России. Опираясь на него, историограф выступил с резкой критикой проекта кодификации российского гражданского права в 1811 году в «Записке о древней и новой России»153. Опала Сперанского в 1812 году не в последнюю очередь была связана с обвинениями его Карамзиным.
Карамзина возмущал тот факт, что чиновники под руководством М. М. Сперанского и остзейского юриста Г. А. Розенкампфа154 стремились применить в проекте русского гражданского уложения статьи о гражданских правах французов, почерпнутые из недавно принятого кодекса Наполеона и чуждые русскому духу. Историк напоминал, что в Российской империи наличие или отсутствие гражданских прав определяется принадлежностью к определенному сословию, а не к национальной общности «русский»:
Кстати ли начинать русское уложение, например, главою о правах гражданских, коих в истинном смысле не бывало и нет в России? У нас только политические или особенные права разных государственных состояний; у нас дворяне, купцы, мещане и проч. – все они имеют особенные права, – общего нет, кроме названия русских155.
Это очень важный момент. Налицо определенное противоречие в логике рассуждения. Карамзин писал, что прав и обязанностей «русского» не существует, поскольку разные социальные группы (и регионы) империи живут в отличающихся правовых реальностях, определенных государством. Однако, отвечая на вызов универсалистских начал постреволюционных наций (французов, американцев), историк указывал на необходимость определить национальные правовые основы. Для этого он предлагал свести воедино и систематизировать действующее законодательство в Своде, что, по сути, и сделал Сперанский, когда при Николае его вернули из ссылки и он снова возглавил работы по кодификации законов.
В этом круговороте идей рубежа XVIII и XIX столетий, времени, выражаясь словами С. Ф. Платонова, «великого перелома в духовной жизни человечества»156, перехода от универсального рационализма к национальному романтизму, формировались представления современников. Наиболее ярким примером в этом отношении является записка 1823 года попечителя Казанского учебного округа М. Л. Магницкого. Бывший товарищ Сперанского, его правая рука в Департаменте законов Государственного совета, Магницкий, как и Сперанский, не имел юридического образования. Записка Магницкого называлась «Мнение русского дворянина о гражданском уложении для России»157. Уже в самопрезентации автора – «мнение русского дворянина» – есть заявка на «народность» в национальной самоактуализации, подчеркивание русскости автора и распространение личной позиции на все дворянство в целом.
Магницкий выступил ярым противником законодательных новшеств, считая их отравленными чуждым духом языческого римского и церковного католического права. Он предлагал создать «истинно русское» уложение, основанное на традиционных началах права отцов, то есть «согласное с Православием, все приличное самодержавной власти, обычаям и духу народа нашего собственного»158. Для этого, так же как Н. М. Карамзин, он предлагал собрать и систематизировать действующее законодательство на основе особой национальной системы права. Не имея возможности участвовать в кодификационных работах, попечитель Казанского учебного округа пытался отстоять чистоту российского права во вверенной ему сфере. В начале 1820‑х годов в Казанском университете курс римского права был заменен на византийское право как более подобающий предмет для будущих российских юристов159.
Мятеж декабристов в 1825 году, Июльская революция во Франции 1830‑го и Польское восстание 1830–1831 годов показали, что разрушительные идеи все еще сильны. Легитимизм, который должен был гарантировать законное правление монархий, вошедших в Священный союз, оставался под угрозой опасных воззрений. Неудивительно, что после революции 1848 года последовала кампания против отвлеченных понятий иностранных теорий. Она была столь воинственной, что современники стали испытывать страх «заражения» вредным знанием, которое при этом нельзя было окончательно отринуть из‑за его принадлежности к европейской культурной традиции.
Студент Московской Духовной академии вспоминал, как работала антизападная пропаганда в журналах:
Раз, с одним из своих товарищей… читал я в Вестнике Европы и встретил там странный отзыв о Канте, Фихте, Шеллинге и других идеалистах: их раскритиковал какой-то, не помню, ученый, едва ли не профессор, и, назвав помешанными, засадил в Желтый дом, или – не хуже ли еще – в тюрьму, как больных заразительных. Сначала мы поверили критике… думая: в самом деле, не безумие ли, что мы чтим всякие немецкие бредни и силимся их проникнуть, пожалуй, и сам угодишь в дом сумасшедших160.
Как видим, подозрение к иностранному, от неправильного увлечения которым можно и пострадать, было вполне «в духе времени». Тем не менее образованные подданные настаивали на продолжении просвещения при условии правильного его направления, заданного новым ключевым словом – «положительное». Педагог И. М. Ястребцов161, удостоенный Демидовской премии Министерства народного просвещения, в 1832 года писал, что после ряда заблуждений дух времени изменился:
Но какой дух нынешнего времени? Моральный? Геройский? Философский? Нет, ищущий физического благосостояния. Его можно охарактеризовать словом: положительный. После разных опытов человечество увидело, что прежде всего надобно обеспечить материальное свое существование, что за сим обеспечением приходят, так сказать, сами собою все прочие улучшения162.
Для реализации просвещения в положительном смысле он предполагал три средства: «1. усиление промышленности машинами, 2. сообщение с разными краями света и народами, 3. утверждение обязанностей и прав каждого члена общества»163.
Как видим, в представлении заслуженного педагога права прочно увязывались с обязанностями. Ястребцов и другие общественные деятели николаевского царствия подчеркивали, что решающую роль в новом просвещении должны были взять на себя дворяне – главное сословие империи. Именно они, как учил Берк, чтобы не потерять свою власть, должны были озаботиться гармоничным – «умственным и гражданским» – развитием молодежи своего круга.
С этой точки зрения создание Императорского Училища правоведения, быстро ставшего популярным у дворян, стало реализацией «положительного» гражданского просвещения. Освобожденные от обязательной службы престолу образованные и благовоспитанные дворяне становились просветителями в деле утверждения российского «гражданского образа» правления, к которому вел план Сперанского.
«Положительные начала» и борьба с «неправдой»
Подведем итоги. Стремление обрести особое российское право, объединяющее множественные правовые порядки разных социальных групп и отдельных регионов в Российской империи, порождало две взаимосвязанные тенденции. С одной стороны, как мы видели на примере воспитания правоведов, появилась апелляция к «правде» как неотъемлемой национальной основе «гражданского образа законодательства» в России. Эта широкая категория морально-нравственного дискурса должна была наполнить значением ту схему легитимного морального правления, которую сформулировал Сперанский. Если с петровского времени четко проговаривалось, что «царь-законодавец» охраняет правду, то в николаевское время конкретизировалось, что вся империя, начиная с императора, должна управляться на началах закона и совести, созидая «царство правды».
Такая трансформация планировалась при помощи новых видимых атрибутов законности: Свода как воплощения национального законодательства и когорты «служителей правды» – правоведов. Они дополнили старый главный символ законности – петровское Зерцало закона, грозившее судьям наказанием за нарушения порядка, предусмотренного многочисленными указами и законами. Прежний порядок «исполнения» указов в духе военной дисциплины сменялся новыми идеями об особой «народной правде» русского законного порядка. Эти идеи подразумевали возможность творчески участвовать в уяснении «правды» русской жизни.
С другой стороны, проверенный временем отечественный закон, закрепленный в Своде, в руках верных «служителей правды» должен был стать оружием против идей о возможности радикального изменения порядка на основе естественного права. Российское, историческое и «положительное» противопоставлялось чужеродному и умозрительному.
Утверждение николаевской законности в 1830‑х годах должно было защитить самодержавный строй от популярных на Западе универсалистских требований юснатурализма. Важно понимать, что «царство правды» в России всегда предполагало противопоставление неправде – внешней и внутренней. Под внешней неправдой понимались иностранные идеи о разных институтах «публичного контракта», определяющего границы власти монарха и народа – будь то суд присяжных, представительство или конституция. Внутреннюю неправду видели в «кривде» недостойного правосудия далеких от престола подьячих. В итоге национальный правовой порядок противостоял двум неправдам: структуре европейского конституционного устройства и «безо́бразной» практике отечественных судов.
Вместе с тем, взяв курс на укрепление национальной правовой традиции, нельзя было не учитывать западные идеи легитимной власти, известные просвещенным подданным. При помощи Сперанского император сосредоточился на видимом «гражданском образе» правления по закону. Однако зафиксированный в Своде законов порядок максимально точного применения статей Свода к любому судебному делу, по сути, повторял требования петровского Зерцала. А это мало отличалось от прежней практики исполнения приказов согласно военному началу в управлении, которую критиковал Сперанский.
Продолжением именно такого начала было требование в случае неясности законов в Своде обращаться к вышестоящему начальству для разъяснения. Даже если неясности не было, судебные места повсеместно должны были свои приговоры подавать губернаторам и в случае их замечаний изменять свои решения. Все это делало самодержавную гражданскую законность потенциально очень уязвимой, о чем писал Сперанский в записке, с которой мы начинали эту главу:
Когда большая часть судных дел восходит к высшему правительству и решается его волею, тогда все судебное производство становится пустым образом и самая тень закона исчезает.
Когда средние и низшие правительственные места и лица лишены власти и доверия, тогда все управление сосредоточивается в одном высшем его степени, и тогда вся ответственность тяготеет на нем одном, не разделяясь на места, ему подчиненные.
Таким образом, и естественные, и случайные причины, все соединяются к одному: к неудовольствию, к ропоту, к желанию перемен; и желания сии не есть какой-то непостижимый дух времени, какая-то таинственная и прилипчивая зараза; они есть следствия причин – ясных, простых и положительных164.
Как видим, Сперанский полагал, что квалифицированным чиновникам на местах должно быть доверено самим принимать решения в соответствии с законом. Подозрительное отношение к ним и жесткие требования сверяться по всем спорным вопросам с центром требовалось оставить в прошлом. При этом Сперанский подчеркивал, что только приведением в порядок законодательства нельзя поднять престиж исполнения указов, необходимо также утвердить ценности «гражданского образа законодательства». Молодые дворяне из хороших семейств должны были своей службой повысить престиж суда, изменить прежней образ правления «приказами» и, как следствие, искоренить коррупцию и произвол. Между тем, будучи губернатором в Сибири, сам Сперанский часто вмешивался в работу судов и пересматривал их приговоры, видимо, из‑за отсутствия квалифицированных судейских кадров165.
Особый статус столичных «служителей правды» – правоведов складывался из нескольких составляющих. Помимо понимания привилегированного положения Училища и близости к трону, его выпускники воспринимали себя как новых лидеров дворянства. По сути, Училище правоведения создавало общероссийскую корпорацию специалистов-юристов гораздо более высокого статуса, чем те, кто имел отношение к суду и праву раньше. По мысли Сперанского, это было выгодно аппарату Верховной власти, перегруженному бесконечной перепиской с провинциальными чиновниками. Сановник откровенно писал, что главный враг практической реализации самодержавной законности – вовсе не якобинские идеи, а существующая невыстроенность отношений между разными уровнями власти и их взаимное недоверие и подспудная уверенность в недобросовестности. Это была давняя тенденция. Как показали исследования Д. О. Серова, в основе петровской политики в области правосудия лежало недоверие к чиновникам на местах, связанное с сомнениями в их компетентности. Модус недоверия, о котором напоминали угрозы наказания на Зерцале, заложил специфические формы судопроизводства – требования фиксации в журналах и книгах, необходимость утверждения низовых судебных решений высшими органами суда или администрации.
Провозглашенное «служение правде» в судах самых достойных юношей империи можно рассматривать как шаг к установлению доверия к суду со стороны монарха и со стороны подданных. Неслучайно основатель училища принц Ольденбургский презентовал каждому правоведу первого выпуска золотой перстень с выгравированным девизом respice finem166. Он был утвержден в качестве девиза правоведов167 и содержал квинтэссенцию латинского выражения, в полной форме гласившего: «все, что ты делаешь, делай разумно, конец созерцая».
Этот девиз можно было прочесть двояко. С одной стороны, он как будто призывал действовать максимально рационально, просчитывая итог своих действий. С другой стороны, в качестве конца люди того времени могли предвидеть смерть и Страшный суд. Это двойное прочтение передает суть корпорации правоведов, соединявшей рациональные задачи упорядочивания судопроизводства и миссию «служения правде».
Рутинное понимание девиза правоведов проясняют воспоминания лицеиста И. А. Тютчева. Он писал, что перед отпуском воспитанникам зачитывался специальный документ, в котором им предписывалось вести себя прилично и соблюдать установленные правила, а в заключении напоминалось:
кто не боится всевидящего ока Божия, тот да знает, что все меры приняты к тому, чтобы проступки виновных не укрылись от бдительности начальства, а сами виновные не ускользнули от заслуженной ими кары168.




