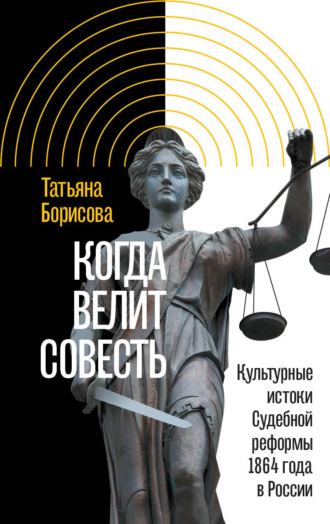
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
Тем самым Дмитриев подчеркивал, что единственное мыслимое ограничение самодержавной власти – ее ответственность перед Богом, – по всей видимости, не имело значения для нового императора. Основываясь на своем впечатлении, Дмитриев сокрушался о том, что чин коронования не предусматривал упоминания об ответственности монарха. Он подчеркивал, что российский император не должен был давать «клятвы или присяги, но даже и никакого обещания», и прояснял этот момент:
Кажется, основанием этого служит то убеждение, что «сердце царево в руке Божией»: следовательно, если он хорош, это значит, что Господь умудрил его; а если дурен – он не виноват, потому что Господь не вложил хорошего в его сердце!
Эмоциональный восклицательный знак выдавал раздражение Дмитриева по поводу того, что политическая традиция абсолютного суверенитета монарха не позволяла подданным что-либо требовать от него. Идея общественного договора противоречила принципу самодержавной власти. Обязывание императора перед Богом «по совести», как это называл Сперанский, было скорее упованием, которое не могло иметь значения договора.
Такое положение дел ставило под сомнение правление закона в Российской империи. Занимавший высокую должность обер-прокурора Сената Дмитриев не скрывал своего возмущения по поводу деятельности сотрудников Третьего отделения, вознесшихся над всеми остальными служащими государственных учреждений и самим законом. Особенно его возмущало, что, сделав донос одним из основных инструментов своей деятельности, Третье отделение не считалось с базовым юридическим принципом разделения закона и морали:
По самому первоначальному юридическому понятию власть гражданская может иметь дело только с поступками, а не с нравственностию; на нравственность она может действовать только воспитательными учреждениями и отъятием способов к разврату, что и называется в законодательстве предупреждением преступлений, но под этим опять разумеется предупреждение действий, а не помыслов. Но требования «поселить в заблудших стремление к добру и возвести их на путь истинный» (из инструкции жандармам. – Т. Б.) – это уже дело религии, а не жандармов; это до того смешно и преступно, что делало жандармов духовными отцами!101
Отметим, что свои обличения Дмитриев доверил бумаге уже после смерти Николая, в эпоху ослабления цензуры. Но исследования о среде образованных чиновников 1820–1830‑х годов, в которой вращался Дмитриев, убеждают нас в том, что нетерпимость к произволу была определенной культурной тенденцией102. В соответствии с ней московский губернатор Д. В. Голицын в своей речи на дворянских выборах 1822 года, разделяя гражданский пафос декабристского Союза благоденствия, говорил о ценности «общей пользы, для благоденствия сограждан… без ничтожных расчетов личной корысти»103. Произвол здесь воспринимался в том числе и как основа коррупции.
Модус гражданственной риторики службы первой четверти XIX века, разделявшийся Дмитриевым, Голицыным и другими, все меньше совпадал с попытками укрепить власть самодержавия доносами и слежкой жандармов. Ценность создаваемого при этом властями богоугодного «образа гражданского законодательства» компрометировалась бесчестным поведением «слуг закона». На дефицит достойных кадров, годных для гражданского управления, указывал Сперанский в своей записке. Он подчеркивал, что для превращения военного правления в гражданское в Российской империи необходимы соответствующе образованные люди.
«Крапивное семя» и Зерцало закона
Описывая генеалогию Свода законов104, Сперанский начинал историю кодификации с правления Петра I. Действительно, именно в его царствование сформировались многие формы и установки государственного управления, усовершенствовать которые стремился Сперанский. Нужды долгой Северной войны, которую довел до победного конца Петр, определили военную направленность петровского законодательства и военные задачи работы государственного аппарата, которые век спустя критиковал Сперанский.
Кроме того, в петровское время было сформулировано идеологическое обоснование безоговорочного подчинения требованиям монарха «по совести». Как показывают Б. А. Успенский и В. М. Живов, Петр и его идеологи начали процесс сакрализации царской власти, вторгаясь в церковную юрисдикцию105. До Петра все, что касалось совести подданного, входило в компетенцию церкви, а все относившееся к государевой службе было в ведении государства. Начиная с Петра I, государство стало руководить совестью подданных106.
Трактат Феофана Прокоповича «Правда воли монаршей» зафиксировал константу самодержавной идеологии – связь христианской благодати, правды и самодержавия. «Правда» как основа службы царю стала важным понятием имперской идеологии107, предполагавшим практические меры «духовного исправления» подданных при помощи соответствующего приспособления церковных институтов108. Мораль и нравственность все более становились предметом ведения государства, а не церкви. Ниже мы разберем, какие прагматические задачи при этом были первостепенными.
В тексте должностной присяги 1722 года, о которой говорилось ранее, понятие «совесть» соседствовало с другими важными для российской государственности XVIII века понятиями – «начальники» и «инструкции». Дословно это излагалось так:
и поверенный и положенный на мне чин, как по сей данной инструкции, так и от времени до времени, Его Императорского Величества Именем от поставленных надо мной начальников, определяемым инструкциям и регламентам и указам надлежащим образом по совести исправлять, и для своей корысти, свойства, дружбы, ни вражды противно должности своей и присяги не поступать109.
Как видим, совесть чиновника как внутреннее принуждение должна была усиливать принуждение внешнее – инструкции, регламенты и указы, исходившие от самого государя или от поставленных по его указу начальников. Исследования петровских реформ показывают, что в основе требования к подданным исполнять обязанности своего чина «по совести» лежали, прежде всего, военные нужды. Именно они в царствование Петра заложили «нормы» законного правления и определили его специфическое понимание. Так как Петр уделял большое внимание зримости своих преобразований, то и в сфере законности он новаторски разработал ряд форм, с помощью которых законность можно было представить и отследить. Остановимся кратко на специфических чертах этих форм видения законности, поскольку они важны для понимания того недоверия к институту суда как месту беззаконий, которое стало своеобразным тропом как высокой, так и низкой культуры в XVIII–XIX веках.
Историки уже обращали внимание на то, что Петр был практиком, а потому популярные в Европе трактаты Гроция, Гоббса и Пуфендорфа занимали его в меньшей степени в сравнении с задачами победы в Северной войне и построения в России европейской монархии110. Правительствующий сенат, высший судебный орган общей юрисдикции, был учрежден в 1711 году с ясной целью – «денег, как возможно, сбирать, понеже деньги суть артериею войны»111. Суровые судебные наказания, которые должен был устанавливать Сенат, были законным средством пополнения казны:
суд иметь нелицемерный и неправедных судей наказывать отнятием чести и всего имения, то ж и ябедникам последует112.
Помимо этого, в один день с учреждением Сената было объявлено о введении должности фискалов, уполномоченных вскрывать разного рода злоупотребления в интересах фиска, или государственной казны. По своим полномочиям фискалы были отчасти близки сотрудникам Третьего отделения при Николае I, о чем нам напоминает слово «фискалить» – шпионить, встречающееся в литературе XIX века. Как подчеркивал замечательный историк петровской Судебной реформы Дмитрий Серов, именно фискалы впервые в истории России были уполномочены инициировать следственные действия от имени государства. Тем самым было положено начало государственному обвинению в суде – до этого исковая процедура была частной, то есть следствие начиналось только в случае заявления частного лица. Масштаб злоупотреблений и наживы на войне, вскрытый фискалами уже в самые первые годы их работы, был чудовищным. Именно в ответ на это последовал пересмотр старой традиции, когда уголовные дела рассматривались только по частному иску, а государство не выступало в качестве истца.
Можно сказать, что тезис Сперанского о военном характере российской государственности отчетливо применим к петровской эпохе. Действительно, реформы Петра были нацелены на бесперебойное обеспечение нужд государства людскими и материальными ресурсами, их строгий учет, оперативное распределение, а также жесткий контроль этих процессов. Суть петровских законов-регламентов была зафиксирована в Генеральном регламенте, где в подробностях прописывалось, как вести учет всех дел во всех учреждениях империи.
Стремление Петра пополнять казну по указам-законам113 шло параллельно с освоением передовых технологий организации управления. При этом Петр настойчиво пытался внедрить начала армейской дисциплины в практики правоприменения и судопроизводства. Неслучайно за основу отчетности чиновники должны были брать типовые образцы приходно-расходных ведомостей, впервые опубликованных в Морском уставе 1720 года и Регламенте Адмиралтейств-коллегии 1722-го114.
В соответствии с задачей усилить зримость законности и беззакония множились листы отпечатанных указов, регламентов, а также разного рода ведомостей и таблиц, создаваемых для отслеживания деятельности государственных учреждений. По аналогии с огнестрельным оружием, изменившим характер войны, Петр надеялся на учетные таблицы и типографскую печать как на новейшие средства эффективного правоприменения. Раз за разом Петр повторял требование обязательно печатать все указы и применять только печатные листы законодательства – во избежание несанкционированных приписок. И само судопроизводство, чтобы выглядеть законным, должно было использовать специально установленные шаблоны. Беззаконие таилось в неизвестном, поэтому вся деятельность суда должна была быть «зримой» для проверяющих.
Так, чтобы правильно показать свою работу в 1721–1722 годах, Канцелярия судных и розыскных дел в Красной слободе Воронежской губернии вела записи, из которых до нас дошли только книги финансовой отчетности. Их было пять, и каждая называлась «Книга записная сбора…» – печатных пошлин, мировых пошлин, исковых пошлин, пересудных денег, канцелярских денег115. При этом в условиях недостатка средств в казне жалованье чиновникам выплачивалось нерегулярно и побег чиновников «от дел» был довольно обычным явлением. Так, архивные источники свидетельствуют, что бежавшие «от скудости» служители Новоладожской судебной канцелярии начала 1720‑х годов оправдывали себя тем, что «жалования на пропитание… не определено, а хлеб, муку ныне покупаем дорогою ценою».
При отсутствии необходимого довольствия и общей ограниченности средств власть искала новые механизмы принуждения к законности подданных и судейских чиновников116. Так, Петр ввел новый символ высокого стандарта правосудия и правоприменения в империи: с 1722 года и вплоть до революций 1917‑го во всех судебных учреждениях империи зримо присутствовал артефакт царского контроля над судопроизводством – Зерцало закона117.
Этот интересный декоративный предмет представлял собой деревянную раму на подножке, в которой выставлялся царский указ 17 апреля 1722 года «О хранении прав гражданских, о невершении дел против регламентов, о невыписывании в докладе что уже напечатано и о имении сего указа во всех судных местах на столе». В указе как раз и содержалось требование каждому судебному месту иметь этот указ в виде зерцала: «доску с подножием, на которую оной печатной указ наклеить и всегда во всех местах, начав от Сенату даже до последних судных мест, иметь на столе яко зеркало, пред очами судящих»118.
Из самого указа о «хранении прав гражданских» нельзя было ничего узнать о сути этих прав. Гражданскими правами в петровское время называли действующие законы, а хранение прав заключалось в четком исполнении царских регламентов. Таким слогом формулировалась основная задача управления государством:
понеже ничто так ко управлению государства нужно есть, как крепкое хранение прав гражданских.
Помимо этого Петр требовал, чтобы любые неясности в действующем законодательстве не становились поводом к самодеятельности, но выяснялись в столице. Там Сенат под присягой должен был составить свое «мнение» о законодательном разрешении «темного вопроса» и
объявлять Нам и когда определим и подпишем, тогда оное напечатать и приложить к регламентам, и потом в действо по оному производить… Буде же кто сей Наш указ преступит под какою отговоркой ни есть, следуя правилам Гагариновым: тот, яко нарушитель прав Государственных и противник власти, казнен будет смертию без всякия пощады.
Примечательна отсылка в тексте указа к казни сподвижника Петра князя Гагарина («правилам Гагариновым»). Он был повешен перед окнами Юстиц-коллегии за злоупотребления губернаторской властью в Сибири. Данное упоминание в указе, размещенном перед каждым судьей, должно было удерживать служителей правосудия от попытки ослушаться регламентов, утвержденных императором. Напротив, четкое выполнение царских регламентов гарантировало действие законов в государстве во всей полноте.
Однако присутствие этого указа на столе не защищало даже самое высокое судебное учреждение империи, Сенат, от нарушений. Сами сенаторы не всегда оказывались чисты перед законом. Доблесть сподвижников Петра, их дерзость и изобретательность в начале правления молодого царя к концу его царствия стали носить характер олигархического произвола. Так, спустя два года после казни Гагарина в октябре 1722 года в Сенате со скандалом разбиралось дело о казнокрадстве сенатора барона Шафирова119. Обвиняемый в ответ стал уличать судей-сенаторов Меншикова и Головкина в неменьших преступлениях. Шафиров отделался ссылкой, но на основе этого опыта Петр год спустя издал два указа и в январе 1724 года приказал их не просто распространить, но также и вывесить на Зерцало.
В указе от 21 января 1724 года «О соблюдении благочиния во всех судных местах судьям и подсудимым и о наказании за бесчинство» напоминалось, что нужно
всего Государства судьям и пришедшим пред суд чинно поступать, понеже суд Божий есть: проклят всяк… как Шафиров учинил в Сенате в 31 день октября 1722 года120.
Примечательна апелляция к божьему суду, о котором напоминал император, указывая на бесчинства Шафирова. По сути, она являлась обращением к совести подданных. Именно совесть, подкрепленная требованием закона, обязывала всех присутствовавших в суде вести себя прилично. Указ перечислял разные наказания за нарушение дисциплины (крик, пререкания и т. п.) как со стороны обвиняемых и судей, так и со стороны доносителей и челобитчиков, обращавшихся в суд. Вторая часть указа касалась наказаний «правителей суда» за неучтивость с теми, кто обращался в суд в поисках справедливости. С ними предписывалось обращаться по правилам Генерального регламента о коллегиях. За брань полагались штраф и требование «просить перед обиженным прощения». За физическое воздействие («а буде дерзнет рукою») следовало суровое наказание «по воинским правам», причем указывался конкретный пункт Морского устава.
Как видим, если первый указ утверждал охранение «прав гражданских» как обязательное следование закону, исходящему от монарха, то второй требовал уважения к судебному процессу. Ориентируясь на правила поведения в петровских коллегиях, судьи и подсудимые должны были общаться учтиво. Рукоприкладство в отношении тех, кто доносил или жаловался на преступления (но не в отношении обвиняемых), наказывалось армейскими законами.
Третий указ требовал от судей максимального внимания к законам. Он так и назывался – «О важности государственных уставов и неотговорке судьями неведением законов по производимым делам под опасением штрафа» (22 января 1724 года)121. В основе его появления лежали те же споры о действующих законах по шафировскому делу:
И дабы впредь никто неведением о государственных уставах не отговаривался (как учинилось от некоторых из Сената, в прошлом 1722 году в 31 день октября в Сенате, что неведением про указ Наш, который им тогда обер-прокурор читал, а они не вняли и учинили противность в Сенате…) и для того отныне, ежели о каком указе где при каком деле помянуто будет, а кто в то время не возьмет того указа смотреть и пренебрежет, а станет неведением после отговариваться: таких наказывать122.
В итоге Зерцало стало представлять собою призму с тремя гранями, обычно увенчанную двуглавым орлом. Со всех сторон судьям грозили наказаниями: за неисполнение закона, за незнание закона и за нарушение закона о дисциплине в суде. Примечательно, что в последнем случае Петр требовал наказывать судей так же, как и военных командиров, превысивших свою власть над подчиненными. В этом уточнении хорошо просматривается суть петровского государства как царства указов и регламентов. «Гражданские права» в нем понимались именно как совокупность приказов подданным. Если в суде оказывалось какое-то дело, то, значит, «гражданские права» (они же «права Государственные») были нарушены, и под страхом наказания судьи должны были решить дело. Под нарушением «гражданских прав» понималось невыполнение разнообразных требований государства к подданным.
Справляться с такой работой должны были идеальные судьи, квалификация которых была зафиксирована на одной из граней Зерцала. Чтобы не подвергнуться наказанию, судьи должны были быть людьми «честными, совестными и беспорочного жития… и потребное к отправлению судейской должности искусство иметь».
Спустя век после петровской эпохи Сперанский констатировал, что подобные требования Петра к служителям судов оставались трудновыполнимыми. Их жалованье по-прежнему оставалось слишком низким, но не в нем видел Сперанский причину плохой работы. В своей записке об «образе гражданского законодательства» он указывал на недостаток образования и понятия «чести» службы, об идеалах которой говорили просвещенные подданные первой четверти XIX века. Указывая на необходимость перехода от военного начала правления к гражданскому, Сперанский писал:
Понятие чести предполагает столь возвышенный образ мыслей, что ни в каком народе и ни в какой службе оно не может быть общим. …В средних и нижних степенях службы есть столь много механического, что нельзя и требовать от всех чиновников сего тонкого ощущения. …Следовательно, для большей части людей служба есть промысел; но из всех промыслов она есть наименее прибыточный123.
Действительно, низкое жалованье и обременительная отчетность не способствовали качественному отправлению правосудия. За редким исключением все наказы в Уложенную комиссию Екатерины II обязательно включали в себя жалобы на судебные учреждения и просьбы разрешить дворянам выбирать из своих рядов судей самостоятельно124. Это им было позволено, но нареканий на работу суда не сняло. Раздражение против суда испытывали не только дворяне. «Подьяческий» дух судопроизводства посредством корыстных манипуляций с законом – отписок, приписок, выписок – стал распространенным образом культуры в XVIII–XIX веках. Он нашел отражение в поговорках, собранных Далем во второй половине XIX века – полтора столетия спустя после упразднения приказов и должностей дьяков Петром:
От черта отобьешься дубиной, а от подьячего полтиной. Вор виноват, а подьячий мошне его рад. Всяк подьячий любит калач горячий125.
Важно подчеркнуть, что официально наименование канцелярских служащих дьяками прекратилось по требованию Регулярного регламента в 1720 году. Специальное предписание требовало: «в городах, в которых были прежде дьяки, в тех и ныне секретарям быть»126. Однако труд В. Даля указывает на то, что жизнь менялась не столь стремительно, как печатались законы.
С этой точки зрения интересно проследить, как появлялись новые и исчезали старые понятия, связанные с правосудием. Их изменения, равно как и их устойчивые траектории, отражены на страницах трех изданий словаря русского языка Академии Российской – 1793, 1822 и 1847 годов. Анализируя развитие терминов, обозначавших судебную экспертизу, можно обнаружить интересный сдвиг.
Так, из третьей редакции словаря в 1847 году исчезает понятие «правоискусник» и «правоискуство», бытовавшие ранее. Словарь 1822 года (как и 1793-го) знал «правоискусника» исключительно как умелого судебного практика и давал ему такое определение:
по знанию правоведения, упражняющийся в судебных делах для приведения в ясность правости или винности чьей при судебных решениях127.
В словаре 1847 года такой эксперт уже назывался «правоведец – искусный в правоведстве, законоведец». При этом ничего не говорилось о судебной практике правоведца, которая ранее была основной компетенцией правоискусника128. Само же понятие «правоведство» объявлялось синонимом «правоведения» и определялось как «наука о правах, систематическое познание законов, законоведение» (курсив мой. – Т. Б.). Термины «правоведец», «правоведство» и даже «правоведение» были зафиксированы в словарях предыдущих редакций, но ни в одном из них применительно к данным понятиям не говорилось о «науке о правах».
Как видим, академический словарь русского языка зафиксировал важное изменение в понимании экспертизы в сфере правосудия. Если раньше она основывалась исключительно на практическом умении пользоваться законами, то постепенно право стало получать значение особой сферы знания – «науки о правах». Эта перемена была связана с развитием юридического образования, которое все больше отходило от обучения юношей «приказным делам» (канцелярскому делопроизводству) в Сенате и коллегиях129. Со времен Екатерины юридические классы стали организовываться в престижных дворянских институтах. Кроме того, с открытием университетов в начале XIX века в их стенах появились правоведческие кафедры и юридические факультеты. Однако значение юридического образования для кадров государственного аппарата оставалось весьма скромным, особенно на местах, где костяк судебных чиновников составляли отставные военные и канцелярские служители130.
В целом практическую ориентированность юридической экспертизы подпитывали две существенные черты российских правовых реалий. Во-первых, имел место прагматический имперский подход к многообразию правовых режимов – писаных и неписаных обычаев разных этнических и региональных групп под властью российской короны. Во-вторых, на сферу права оказывал влияние невысокий уровень развития теоретической мысли в сфере теологии, на который уже обращали внимание исследователи русской культуры131. Оба фактора делали российское законоведение ориентированным прежде всего на практику, а не на теоретические построения.
В своей записке об упрочении гражданского образа правления в России Сперанский придерживался логики исторического развития, которая требовала изменения сложившихся практик государственного управления. Доказывая, что спорадическое управление приказами изжило себя, он применял ту же историческую логику для объяснения необходимости новой кадровой политики государства. Слуги закона должны были измениться:
Чего требует первоначальное образование ума? – памяти и механического повиновения. Но чего требует образованный ум? обширного и свободного размышления132.
Однако, как мы помним, предписания Зерцала совсем не требовали от судей такого размышления. Их служба подразумевала в первую очередь дисциплину и механическую исполнительность. Сперанский косвенно объяснял это низким уровнем образования государственных служащих:
Наши внутренние училищные пособия и ныне еще слабые и колеблющиеся не прежде как в начале настоящего царствования (Александра I. – Т. Б.) получили некоторое расширение. Люди коим ныне 50 лет возраст по большей части учились русской грамоте у дьячков133.
Важно подчеркнуть, что «люди» в системе государственного управления, о которых писал Сперанский, были преимущественно представителями дворянства. Он констатировал, что все виды службы воинской, гражданской и придворной «лежат в России на одном дворянском сословии». Участие в ней прочих сословий «в общем счете весьма мало важно»134. Но ни численность, ни уровень образования дворянского сословия не могли удовлетворить огромным служебным потребностям государства. Поэтому Сперанский рекомендовал расширять категорию государственных служащих за счет достаточно образованных подданных из других сословий. Образованные дворяне из хороших семейств при этом должны были оставить за собой ведущие позиции и стать движущей силой упрочения «гражданского образа законодательства».
«Благовоспитанные правоведы»
Когда работа над составлением Свода была закончена, Сперанский представил царю записку «О специальных училищах». В ней он изложил план создания Училища правоведения. В отличие от юридических факультетов университетов, где юриспруденция преподавалась как теоретическая наука, правоведы должны были получать образование, ориентированное именно на судопроизводство. В соответствии с уже известным нам планом-запиской Сперанского выпускники Училища должны были постепенно, без коренных изменений системы правосудия организовать правильное гражданское управление и заменить им устаревшее военное. Он подчеркивал:




