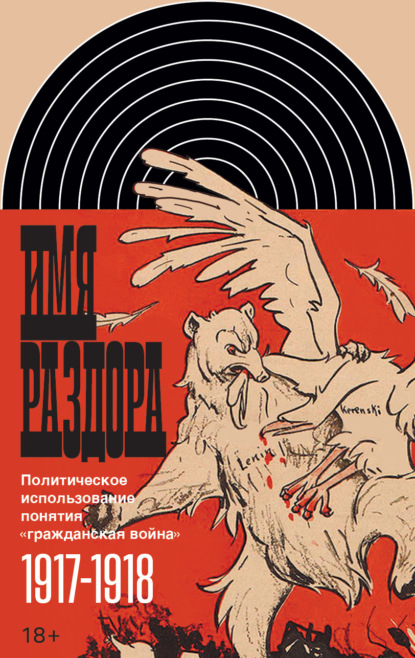Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
Прямота влиятельного сановника, возможно, была следствием крутого поворота в его жизни после внезапной опалы в 1812 году, связанной с подозрением в измене Отечеству. Отосланный из столицы сначала в Нижний Новгород, затем в Пензу, а потом в Сибирь, Сперанский обозревал свой опыт в высших сферах столичного управления и реалии окружавшей его провинциальной жизни и приходил к выводу, что
Россия есть и всегда была государство военное. Гражданские ее установления суть средства, а не цель ее бытия. Они не имеют самостоятельности ни в людях, ни в законах, ни в учреждениях, ни в воспитании, ни в образе мыслей. Начала ее управления всегда были совершенно военные. Все и всегда управлялось дневными (sic. – Т. Б.) приказами, хотя формы их были различны47.
По-видимому, говоря о первостепенном значении приказа в системе государственного управления, Сперанский имел в виду главным образом указы, которые играли в законодательной практике самодержавия очень важную роль48. По мнению Сперанского, военно-указное начало, полезное для развития молодых государств, могло стать и уже становилось вредным для зрелой государственности. Первый и самый большой вред он видел в проблеме «управляемости» офицеров и солдат, прошедших войну. Особенно опасным сановник считал влияние большой и продолжительной войны на офицеров. Сперанский обобщал эту опасность, называя ее «множеством притязаний, которые удовлетворить невозможно». С одной стороны, это были претензии на материальные блага и власть. Награждая и чествуя героев войны, государство не всем им могло обеспечить высокий статус в мирной жизни:
Чины и знаки отличия без мест и без имущества суть ассигнационные долги, коих погашение – столько же трудно, как и [денежных] ассигнаций49.
Но самое опасное, по мнению Сперанского, заключалось в тех притязаниях на участие в жизни государства, которые предъявляли спасшие отечество подданные-герои.
Великие и личные опасности оставляют после глубокие следы. Даже и тогда, когда они миновали, ум любит в них углубляться и из прошлого заключать о будущем бытии и искать безопасности. …Опыт общественных несчастий, даже и минувших, уменьшает доверие к правительству. Каждый мнит иметь право давать ему советы и считать их необходимыми50.
Чтобы амбиции оставшихся не у дел офицеров не подпитывались страхами и недоверием подданных к власти, государство должно было обезопасить себя твердой работой гражданских институтов правления. Для Сперанского это были полиция, суд и казначейство, действующие на трех уровнях: государственном, губернском и окружном. Характерной чертой всего современного Сперанскому гражданского управления он считал противоречие двух модусов – «сила и скорость приказов, медленность и бездействие в управлении»51.
Опальный сановник полагал, что для превращения воинской системы управления в гражданскую необходимы преобразования в таких сферах, как законы, люди и деньги. Говоря о необходимости укрепить законы, он отметал возможность конституционной монархии для России. Публичному «контракту» монарха и народа на основе конституции Сперанский противопоставлял другой «образ гражданского законодательства», который не изложен формально, но «действует по началам, на одном внутреннем убеждении, на одной совести Государя основанным»52 (курсив мой. – Т. Б.).
Как видим, первый «образ» правления Сперанский называл следствием контракта: «Государь действует… публично и в счет контракта, под присягою принятым». Второй путь, хоть и не был публично никак зафиксирован, основывался на совести государя и должен был быть усилен формально. Для этого сановник в самых общих чертах очерчивал тот план кодификации законов в Своде, который был впоследствии реализован под его руководством. В записке подчеркивалось, что собранное воедино в систему существующее законодательство зафиксирует «правила внутреннего управления». Они станут хорошей основой для гражданского правления и создадут
долголетний и непрерывный навык следовать одним и тем же правилам во внутреннем управлении. Сей навык, укоренившись в народных привычках и в образе мыслей, составляет не писанную, но твердую и, можно сказать, живую Конституцию. Следовательно, чем ранее принят будет сей образ Законодательства, тем впоследствии он будет прочнее53.
Поэтому, по мнению Сперанского, настоятельно требовалось «составление законов и учреждений», основанное на единстве в общем плане и «единстве в лице». Таким единым лицом стал сам император Николай I, поручивший дело кодификации законов специально созданному в 1826 году Второму отделению Собственной Его Императорского Величества канцелярии.
Общий модус этого проекта был задан императором в коронационном манифесте, подготовленном будущим редактором Свода Сперанским. В нем прозвучал основной урок, который подданные должны были вынести по итогам мятежа на Сенатской площади:
Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершенствуются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершенствования всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к Нам путем законным, для всех отверстым, всегда будут приняты Нами с благоговением54.
Как видим, в царском манифесте перемены к лучшему связывались с «утверждением силы законов», которое должно осуществляться исключительно сверху и постепенно, путем усовершенствования существующих институтов. Революционным идеям декабристов о «Конституции и Представительстве Народном»55 противопоставлялось устоявшееся с конца XVII века понимание конституции в логике латинского constitution – как «устройства, положения»56. Писанная людьми конституция противопоставлялась естественным образом сложившемуся порядку управления. Для Сперанского, как и для декабристов, конституция – это созданный текст. Различие в том, что декабристы ставили закон выше царя, а Сперанский, вызванный Николаем I из ссылки, вполне резонно писал о «живой конституции», согласно которой монарх стоит выше собственных законов. При этом государь связан обязательствами перед Богом хранить государство и укреплять его законы.
В соответствии с этими идеями коронационный манифест Николая I провозглашал намерение утвердить «силу законов» – то есть системных принципов правления (в противовес спорадическим указам, приказам). Тем самым власть реагировала на идеологическую установку декабристов, выступавших как «защитники прав государя и прав народа протестовать против неправых приказов»57. Российская правовая традиция и практика, таким образом, должны были опереться на проверенные веками правила внутреннего управления. Основанные на давней традиции законы должны были дать отпор известным в России западным конституционным идеям58, которые исходили из революционного опыта и подразумевали договор об ограничении власти императора59.
«Образ законодательства» как практическая деятельность
Но кто мог авторитетно высказываться о том, что именно представляла собой отечественная правовая традиция? Выражение Сперанского «образ законодательства» подталкивает нас к интересной перспективе. Понятие «образ» позволяет взглянуть на законодательство и судопроизводство в двух аспектах – как на воображаемую и видимую реальность. Внимание к видимости, зримости явлений жизни, с одной стороны, и разного рода умозрительные построения политических и социальных теорий, с другой стороны, – отличительная особенность нового времени, или модерности. Она распространялась на все сферы жизни, включая право и судопроизводство. Юристы и мыслители XVIII века стали все больше писать о том, как выглядит правосудие на улицах города60, как можно сделать чертеж государственной машины и воплотить его в жизнь61, как нужно представлять, то есть видеть, историю права и государства62. С петровского правления все эти вопросы о видимом и желаемом стали очень важны для России. Петр I задал направление визуальному реформированию действительности, ставшее своеобразной доминантой для целого столетия63.
Возможно, Сперанский был прав в том, что военные победы кружили головы и создавали непомерные притязания у героев на собственное видение российского государства. Об этом свидетельствуют, например, записи в дневнике 1803 года первого директора Царскосельского лицея В. Ф. Малиновского. Он прямо указывал, что пролитая в боях кровь и громкие победы русских военных являлись основанием для притязаний на участие в законодательной деятельности:
доселе столь знаменитые в Европе своим мужеством и победами, они законодательством покажут, сколь великого почтения достойны по дарованиям своего быстрого ума и тонкого понятия (курсив мой. – Т. Б.)64.
Малиновский писал, что «законоположение без участия законополагаемых, без совета их и представления, бедственнее настоящего недостатка в законах»65. Народные представители обязательно должны принимать участие в «законоположении» – то есть в составлении нового уложения. Как видим, герои не только претендовали на участие в законодательной власти – они видели в таком участии необходимость. Эта необходимость формулировалась в простом тезисе о том, что право неотделимо от народа, происходит от его «понятия народного».
«Образ законодательства» волновал многих современников Сперанского, которые благодаря своему образованию и эпохальному опыту войны 1812 года стали ощущать свою субъектность гораздо сильнее, чем поколение их отцов66. Законодательные проекты мятежников, вышедших на Сенатскую площадь, показывали, что представители высшего класса имели свое видение законного правления и справедливого суда и были готовы к радикальным действиям67. Сходные мысли высказывали и другие участники войны 1812 года68, сожалея в том числе об отсутствии адвокатов и суда присяжных69, которые воспринимались как видимые формы европейского, а следовательно, желанного судоустройства.
Ответом на притязания элит на участие в «законоположении» стало усиление (посредством разных новаций) видимой законности самодержавного правления. Ее основанием объявлялась традиционалистская легитимность законного порядка. Составленный Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Свод законов провозглашался средоточием мудрости всех прежних законов, вышедших после Соборного уложения 1649 года и как бы продолжавших его. Представляя Свод в Государственном совете, император особо подчеркнул: «Свод не создает законов новых, а приводит в порядок старые». Эта фраза надолго стала своеобразным определением Свода, общим местом, без которого не обходится ни одно его описание в литературе70.
Анализ материалов работ по составлению Свода показывает, что создание впечатления о «традиционности» Свода было одной из задач, которую осознавали кодификаторы. Работа над ней активизировалась на заключительном этапе его составления, перед тем как Свод поступил в специально созданные в министерствах ревизионные комитеты на проверку. Главные редакторы, М. А. Балугьянский и М. М. Сперанский, предприняли особые усилия для того, чтобы не возникало никаких сомнений в том, что положения Свода базируются на исконном российском законодательстве. Так, инструкция от 21 февраля 1831 года предписывала сотрудникам «держаться слов» закона-первоисточника, исправляя его только в исключительных случаях71. При этом начальная инструкция, на основании которой составлялись тома Свода, напротив, допускала более вольное обращение с источниками72. Более того, известно, что, обнаружив пробелы в законодательстве, кодификаторы стимулировали разработку соответствующих постановлений, которые потом вносили в Свод73. Поэтому вопреки декларациям Сперанского о том, что Свод не привносил ничего нового, а только систематизировал старое74, на деле было не так75. Как показали юристы уже в конце XIX века, в Свод вошли разнообразные законодательные новации, особенно в части гражданского права, где легко узнавались формулировки из Кодекса Наполеона76. Но публике, повторим, Свод был представлен как освященный веками кодекс российского права – под каждой его статьей приводились ссылки на законодательные источники прошлого.
Вторым, гораздо более заметным ответом на законодательные притязания образованных подданных стало институциональное упрочение самодержавной власти как гаранта законности. В 1826 году были созданы Второе и Третье отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, ставшие двумя столпами николаевского «образа законодательства». Чтобы гарантировать следование букве закона на местах, Второе отделение рассылало во все присутственные места Российской империи книги Свода законов и Продолжения к нему. На сотрудников Третьего отделения была возложена задача усиления законного порядка и выявления всевозможных нарушений путем тайного наблюдения77. Должностная инструкция предписывала жандармам быть «блюстителями общественной нравственности; от имени государства и для блага государства обеспечивать тишину, порядок, подчинение старшим и благочиние»78.
Конституция «по совести»?
Видимые атрибуты усиления законности николаевской монархии – вездесущие жандармы и увесистые книги Свода – были подкреплены содержательно. В первом томе Свода были опубликованы Основные законы Российской империи. Они разрабатывались как противопоставление западной конституционной модели, ограничивавшей монарха. Ее неприменимость для России, на чем настаивал в своей записке Сперанский, компенсировалась у него идеей особой российской конституции-учреждения, основы «гражданского образа правления». Разумеется, ни о каком «публичном контракте» не могло идти и речи79. Тем не менее в Основных законах был прописан моральный принцип, связывавший монарха и подданных и выражавшийся в обращении к совести.
Первая статья Основных законов указывала на главную обязанность подданных – повиноваться не только из страха, но и по совести:
Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной самодержавной власти его не токмо за страх, но и совесть сам Бог повелевает80.
Эта формула опиралась на известное положение из послания к Римлянам апостола Павла: «Тѣ́мже потре́ба повинова́тися не то́кмо за гнѣ́въ, но и за со́вѣсть» (Рим. 13:5). Феофан Прокопович внес это положение в Духовный регламент 1721 года, в котором была прописана роль церкви в петровском государстве и утверждалось: «Монархов власть есть Самодержавная, которым повиноваться Сам Бог за совесть повелевает»81.
Составленный Феофаном текст присяги для чинов Духовной коллегии стал основой для присяги императору, введенной 5 февраля 1722 года. В нем подданные обязывались исполнять свой чин «по совести». Так в петровское время совесть подданных стала предметом государственного интереса уже не с точки зрения защиты православной веры и пресечения отпадения от нее, но в более широком смысле82. Служба «по совести», в согласии со справедливым и естественным устройством власти, а не только из страха наказания за нерадивость, была зафиксирована в законе как принцип служения Отечеству. Феофан написал специальное «Рассуждение о присяге, или клятве», в котором доказывал, что требование присяги от подданных не противоречит христианским догматам, а, напротив, «есть самое высокое Богу почтение»83. Текст присяги вошел в Основные законы 1833 года.
В исследовательской литературе уже отмечалось, что притязания первого российского императора на совесть подданных нужно рассматривать в контексте хорошо известной и самому Петру I, и Ф. Прокоповичу протестантской риторики совести84. Будучи мощным средством сопротивления деспотизму Папы римского, обращение к совести стало одной из ведущих протестантских идей правильно организованной государственной власти. Инструментализация совести как риторическая модель взаимной самоотверженной работы подданных и царя на благо Отечества, воспринятая Петром прагматически, без связи с лютеранством, закрепилась в российском контексте85. Указывая на сакральный характер самодержавной власти, она отсекала саму возможность ответственности монарха перед кем-либо, кроме как перед Богом, по совести. Наиболее емко в XVIII веке это кредо российской монархической власти выразила Екатерина II в записке «О преимуществе Императорского Величества»: император «отчету же в делах на сем свете не подвержен», а дает отчет и «благодарение Единому Творцу Нашему Богу»86.
Слова Екатерины верно трактуются исследователями как выражение неограниченной власти императрицы87. Однако в XIX веке, в условиях необходимости упрочить легитимность самодержавия и улучшить качество управления, появились новые оттенки понимания связи российского монарха с Богом. Основные законы 1833 года позволяли помыслить, что монарх также принимает на себя своеобразное обязательство, о котором говорилось в пятой главе Основных законов «О священном короновании и миропомазании». В ней сообщалось, что о времени этого обряда должно быть объявлено всенародно, а к самой церемонии в Московском Успенском соборе специально призывались представители высших сословий.
Текст Основных законов регламентировал и саму церемонию. Прочтя вслух символ православной веры, «по облечении в порфиру, по возложении на Себя короны и по восприятии скипетра и державы», коронованный монарх должен был прочитать специальную молитву (чин коронования). В ней он «призывал Царя Царствующих в установленной для сего молитве, с коленопреклонением», в которой просил:
да наставит Его, вразумит и управит, в великом служении, яко Царя и Судию Царству Всероссийскому, да будет с Ним приседящая Божественному престолу премудрость, и да будет сердце Его в руку Божию, во еже вся устроити к пользе врученных Ему людей и к славе Божией, яко да и в день суда его непостыдно воздаст Ему слово88.
Так, повинуясь государю по совести, подданные могли рассчитывать на то, что монарх, в свою очередь, обязывался перед Богом в своем служении царя и судии Российской империи. Важно подчеркнуть, что обязательства монарха и подданных не были взаимными. Тем не менее в Основных законах фиксировалось, что и император, и подданные должны обязываться перед Богом служить на благо богоустановленной светской власти Российской империи. Вполне симптоматично для описания отношения лояльности престолу с начала XIX века образованные подданные стали пользоваться новым понятием «верноподданный» и даже «вернопреданный»89. Эти новые понятия отражали представления о духовной связи государства, монарха и подданных, что началось еще при Петре I.
Видный специалист по российскому государственному праву Б. Э. Нольде писал в 1906 году, что Основные законы были воплощением общей исторической тенденции. Она заключалась в том, что «политическая история anciene regime, говоря юридически, есть формализация понятия конституция»90. Имелось в виду, что верховная власть во всем мире должна была выработать и зафиксировать в тексте закона формальные критерии легитимного правления91.
В этой связи обратим внимание на историческое значение понятия «образ гражданского законодательства», использовавшегося Сперанским. В первой половине XIX века слово «образ» имело значение «начертание» или «порядок» и употреблялось в дискурсе об управлении для описания желаемого порядка управления. Так, странная на первый взгляд фраза Александра I из программного рескрипта Завадовскому о «реформе безобразного здания администрации империи»92 имеет смысл, только если мы увидим здесь желанный «образ» порядка и правильно поставим ударение – безо́бразного93.
Сперанский придал этому образу законодательства важный моральный вектор. В своей записке он четко обозначил, что российская «живая конституция» основана на «внутреннем убеждении», ее начала «на одной совести Государя основаны»94. В Основных законах, как мы видели, также упоминалось это моральное понятие, относящееся, согласно словарям того времени, к сфере божественного.
Так, в наиболее близком к моменту издания Основных законов академическом словаре русского языка 1822 года находим два значения понятия «совесть», подкрепленные примерами из Библии:
1. врожденная души сила, способность судить нравственную доброту или худобу наших деяний; 2. внутреннее уверение, твердое признание нравственной доброты или худобы дел наших95.
Как видим, первое значение подразумевало способность каждой души судить о добре и зле человеческих дел. Второе относилось к реализации этой способности – нравственному вердикту совести. Основываясь на божественном даре совести, человек мог судить о поступках, преимущественно о своих.
Повиноваться по велению совести власти монарха, обязующегося перед Богом править «к пользе врученных Ему людей и к славе Божией», Сперанский представлял достойной альтернативой конституции-договору. Совесть, таким образом, с одной стороны, становилась условием лояльности престолу со стороны подданных, их взаимной связи с монархом, условием, необходимым для реализации богоугодного порядка. С другой стороны, совесть государя-христианина становилась залогом легитимности его правления. Связь подданных и монарха по совести была альтернативой публичному контракту парламентского строя, ограничивавшему верховную власть.
Дискурс моральных обязательств монарха и народа нашел воплощение в Акте Священного союза австрийского, прусского и российского монархов. В нем утверждалось, что монархи проявляют отеческое попечение, чтобы «члены единого рода христианского» «деятельно исполняли обязанности, в которых наставил человеков Божественный спаситель». Развивая подобную популярную христианскую риторику своего времени, Сперанский в «Руководстве к познанию законов» много писал о первенствующей роли совести для понимания «всеобщего естественного правильного союза» человека с самим собой, с другими людьми и Богом96. В рамках государства этот союз требовал внешнего выражения в «образе гражданского законодательства». Работа над таким «образом» стала весьма актуальной в ситуации, когда просвещенные подданные стали создавать свои «союзы» – Союз спасения, Союз благоденствия, – осмысляя возможности самоорганизации.
«Посягательства рационализма и либеральных стремлений века»
Обстоятельства восшествия на престол Николая I обусловили его личную заинтересованность в упрочении культа богоустановленной и законной самодержавной власти. Неразбериха с присягой и мятеж декабристов на Сенатской площади стали стимулом того рвения, с каким он стал утверждать веру в «самодержавие милостью Божией». Почвой, на которой она родилась, стали унизительное междуцарствие и бунт 14 декабря, приведшие его к власти. Став императором «милостью Божьей», он не мог не помнить свои собственные сомнения и сомнения подданных и, возможно, поэтому транслировал своему двору непререкаемую «веру в самодержавие». Об этом свидетельствовала фрейлина А. Ф. Тютчева:
Никогда этот человек не испытывал тени сомнения в своей власти и законности ее. Его самодержавие милостью Божией было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии… сохранить его (самодержавие. – Т. Б.)… и защищать его от посягательств рационализма и либеральных стремлений века – такова была священная миссия97.
Однако многим просвещенным подданным первой четверти XIX века казалось, что подразумеваемых обязательств императора и чиновников перед Богом недостаточно для утверждения современного государственного порядка. Сомневающиеся в непререкаемой самодержавной власти остались даже после того, как выступившие за конституцию декабристы были преданы суду и наказаны. Так, выпускник Московского университета, видный чиновник московского Сената, известный судебный деятель и литератор М. А. Дмитриев не скрывал своего раздражения по поводу самодержавных амбиций Николая, которые уже не соответствовали чаяниям его просвещенных подданных98.
Обратим внимание на то, что свои обличения деспотических наклонностей Николая I Дмитриев начал с того, что указал на горделивое поведение Николая во время церковной церемонии коронации, где должна была зримо присутствовать вера императора и его обязывание перед Богом за Россию. В своих мемуарах Дмитриев сообщал, что во время церковного обряда Николай не выказывал никакого религиозного благоговения и искренности молитвы в кругу своих высокопоставленных подданных. Юрист Дмитриев, как видим, заострял внимание на том, что «образ гражданского правления» с обязавшимся перед Богом монархом во главе не проявлялся на коронации. Всему виной была неготовность «вчерашнего бригадного командира», а теперь царя войти в «роль», как метко выразился Ю. М. Лотман99.
Дмитриев специально приводил дословно слова молитвы об укреплении дела правосудия в империи и сокрушался по поводу нерадения императора:
Протодиакон громко молился о нем Господу: «О еже помазанием всесвятого мира прияти ему с небес к правлению и правосудию силу и премудрость» и «яко да подчиненные суды его немздоимны и нелицеприятны сохранити». А он едва ли участвовал в этом прошении, судя по его неподвижному лицу и солдатскому величию!100