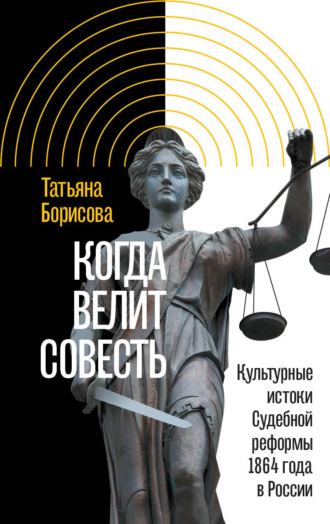
Полная версия
Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России
С этой точки зрения, то есть если рассматривать снизу, а не сверху новый суд, действующий по закону и по совести, сама формулировка Уортмана «право самодержца на покорность подданных» требует пересмотра. Покорность как безальтернативное подчинение основана на безусловной силе одной стороны и слабости другой. Царствие Александра II началось с пересмотра стратегии силы в пользу нового режима коммуникации с подданными, которые все чаще именовались «гражданами» – как в журналах, так и во внутренних государственных документах.
Гласность, с голосом в основе, предполагала свободу высказывания, разноголосицу разных суждений, выбор между ними. Среди них стали звучать голоса радикалов и полагавшихся им по закону адвокатов. Исследования советского историка адвокатуры Н. А. Троицкого показали, что многие адвокаты занимали вполне самостоятельную политическую позицию и использовали суд и печать для ее выражения31. Их политизация, как демонстрирует Уайтхед, опиралась на нарративы популярной беллетристики и журналистики32.
Большой пласт исторических источников разного происхождения позволяет говорить о том, что в 1860‑х годах реформа осмыслялась и проводилась как вполне свободная реализация права подданных на участие в судебной власти. Рассматривая Судебную реформу 1864 года как сложный социально-политический и культурный процесс, мы можем опереться на недавние исследования, существенно пересматривающие представления о государстве и об обществе в позднеимперской России.
Монографии Е. Правиловой, И. Герасимова и С. Антонова помогают переосмыслить роль государственного начала в определении отношений между частным и общим в поздней Российской империи. Если Правилова разрушает старое клише историографии о недоразвитости института собственности в России, то Антонов дополняет эту картину, освещая роль частного интереса в кредитных отношениях и пределах государственного вмешательства в эту сферу33. Герасимов тоже проблематизирует «всесильную роль» государства, исследуя эффективность и адекватность государственных практик самоописания и саморефлексии. Городской плебс империи начала ХX века он изучает через призму постколониальной теории как субалтернов, которые языком насилия и преступлений отвечали на навязанные им схемы подчинения, тем самым опрокидывая их. Памфлетам и листовкам легальных и подпольных общественных деятелей, которых мы привыкли видеть двигателями протеста, Герасимов противопоставляет бессловесный путь безвестных проституток и «мазуриков» – путь нарушения и подрыва порядка.
Хотя литературный типаж глухонемого дворника Герасима из тургеневской повести «Му-му» является центральным в аргументации Герасимова, он концентрируется именно на действиях людей вне дискурса. В этом смысле с его новаторским исследованием можно поспорить по той причине, что отложившиеся в прессе и архивах источники о преступной деятельности плебеев создавались грамотными и даже образованными людьми, то есть проходили фильтр их восприятия. Развлекательное, обличительное или сочувственное изображение преступления и пороков в долгом XIX веке во многом опиралось на устойчивые сценарии публичного обвинения или оправдания в судах. В свою очередь, на них влияли художественные образы и обличительные сценарии представления о законности и правосудии в беллетристике и журналистике. Поэтому взаимовлияние суда и литературы является одной из исследовательских перспектив этой книги.
Вообще направление исследования Герасимова представляется очень интересным, особенно в свете актуальной дискуссии о проблеме дефицита этического суждения в России сегодня. Открытый цинизм героя позднесоветского и нашего времени – трикстера, как показывает М. Липовецкий, опирается на удаль Остапа Бендера, готового преуспеть любым способом и говорить для этого любым языком. Если вспомнить, что Бендер любил сопровождать свои искрометные фразы обращением к «господам присяжным заседателям», то мы получим косвенное подтверждение тому, что суд присяжных стал катализатором новой этической реальности в России. Но были ли манипулятивными per se те картины реальности, которые стали разворачивать перед присяжными обвиняемые, обвинители, адвокаты, свидетели и потерпевшие?
Исследовательские вопросы и подход
В этой книге рассматривается, как совесть, признанная критерием оценки деяний в суде, стала средством публичного обсуждения проблемы личных прав и ответственности в Российской империи середины XIX века. Очевидно, что это огромная тема, и данная монография делает только первый подход к ней. Опираясь на обширную историографию и анализ новых и уже известных источников, я исследую долгосрочную предысторию инструментализации совести и важные для работы российского правосудия события 1866–1868 годов, когда новые суды были открыты в обеих столицах. Критерием отбора событий стало то внимание, которое им уделила публика, – насколько мы можем судить об этом по историческим источникам тех лет и более позднего времени.
В большей степени книга опирается на источники, предназначенные для публики – ее мнение стало решающим в процессе гласного обсуждения того, как должна действовать совесть. В этом обсуждении переплелись как вполне реальные люди и судебные процессы, так и воображаемые миры беллетристических произведений34 и социальных теорий. Беллетристика особенно важна тем, что из нее черпались образы и понятия дискурса гласного суда. Журналы, газеты, юридические сочинения, романы, судебная хроника и некоторые архивные материалы о том, что намеренно скрывалось от публики, – вот основные источники этой книги. Также в ней используются свидетельства современников личного происхождения: дневники, мемуары, переписка.
Основное место действия изучаемых событий – Санкт-Петербург. Это связано с тем, что радикализм Судебной реформы нервировал и самих ее разработчиков, поэтому они предполагали опереться на самые подготовленные кадры и «развитую» столичную публику. Новые окружные суды с просторными залами для публики и подобием сцены для состязания обвинителя и защитника были открыты вначале именно в столицах – Петербурге и Москве. В представлении реформаторов, наиболее образованная среда столиц должна была задать правильный тон в грядущем соединении суда государственного и нравственного. Петербург должен был стать основной площадкой этической трансформации как центр развития русского печатного слова, литературы и публицистики, юридических и государственных знаний, искусств и развлечений35.
Именно в Петербурге, быстро менявшемся под влиянием глобальных капиталистических и прогрессивистских процессов, современность обрушивалась на обывателей во всем своем неприглядном аморальном, преступном обличье. Порочный Петербург сулил небывалые возможности и даже стал в 1860–1870‑х годах основой для нового нарицательного слова «питерщик», которым называли вчерашних крестьян, не всегда законно разбогатевших в столице. Петербург стал центром осмысления преступления и наказания, и здесь же возник вопрос о том, в какой степени проблемы правды, суда, ответственности действительно важны. Не надуманы ли они под влиянием западных образцов литературных или управленческих фантазий?
Действительно, концентрация власти, богатства и безумия в вознесшейся из болот усилием самодержавной воли столице способствовала тому, что разные причуды и воображаемые миры здесь могли представляться реальностью. Чужеродность и надуманность петербургских фантазий о преступлениях и правосудии не раз разоблачали современники. В 1864 году, когда готовились к изданию Судебные уставы, огромный ажиотаж у публики вызвали «Петербургские трущобы» Всеволода Крестовского. Их автор в многочисленных подробностях описывал преступления петербургской жизни, предпосылая своему труду просветительский эпиграф:
Не тот циник, который указывает на язвы, грызущие общество; но тот циник, который, замечая эти язвы, часто даже прикасаясь к ним, остается хладнокровным их зрителем36.
Критика срывала с Крестовского личину просветительской повестки и осуждала его за банальную погоню за наживой по следам успешных французских образчиков подобного жанра:
Ибо странно предположить, что петербургские мошенники до того начитались французских романов, что и жизнь свою устроили по плану этих произведений37.
Торжество порока, изображая которое, Крестовский, по мнению критика, видел себя маркизом де Садом, было тоже фальшивым. Ведь настоящий де Сад, замечал критик, был «органически-расстроен» и помещен в дом для умалишенных, а его русский эпигон возомнил себя «литературным де Садом по расчету»38.
Проблема правды и действительности российских язв, а не расчетливо скопированных западных пороков волновала современников и должна была получить публичное разрешение в европеизированном Петербурге. Если посмотреть на новый суд в контексте нарративов о бессовестном Петербурге, то станет яснее, почему успешно самоорганизовавшейся петербургской адвокатуре Ф. М. Достоевский дал хлесткое определение «нанятая совесть».
Краткое содержание глав
В первой части книги (главы 1–3) рассмотрены две пересекающиеся истории развития представлений о том, чем должен быть русский суд: настоящие судебные места и воображаемый «суд публики» в печати. В первой и во второй главах речь пойдет об основополагающих проблемах российского правосудия. С помощью совести и новой организации судопроизводства планировалось избавиться от старых зол, которыми традиционно считались плохой судья и неясный закон. История службы выпускника Училища правоведения 1842 года Ивана Сергеевича Аксакова является замечательной возможностью погрузиться в реалии самодержавной законности и дореформенного судопроизводства. Прослужив чуть менее десяти лет, представитель типа «бесстрашного правоведа» неблагонадежный поэт Аксаков уволился со службы. Разнообразные личные и служебные документы и хлесткий приговор старому суду в известной пьесе Аксакова «Присутственный день уголовной палаты» позволяют проанализировать столкновение системы с чувствительным и требовательным человеком нового времени. На примере И. С. Аксакова интересно проследить процесс рождения юриста – «деятеля по совести».
Русская совесть не могла заявить о себе без развития «суда публики», которому посвящена третья глава. Она показывает, какими средствами стремительно развивавшаяся печать убеждала российских читателей в том, что настоящее искусство доступно всем, так же как справедливость и истина. Эта глава начинается с рассказа о попытке литераторов вовлечь читателей в судейское состязание о «приличествующем слоге» для русской оды в середине XVIII века. Далее, в соответствии с общей тенденцией демократизации литературы и чтения, русская печать все больше апеллировала к чувствам читателей. Как писал первый «присяжный критик» в России Виссарион Белинский, в XIX веке искусство перестало быть безделкой для потребления высших классов, мастерство которой могут оценить лишь светские знатоки. Настоящее художественное произведение и настоящий суд над ним не могли более оставаться привилегией высших классов, потому что их гениальность будила «святой восторг» у всех, кто мог созерцать ее39.
Во второй части книги (четвертая, пятая и шестая главы) особое внимание уделено появлению нового типа публичных деятелей – обличителей. Их зримое присутствие в мире российской литературы и журналистики сыграло важную роль в том, как заработали новые суды. Главы этой части посвящены тому, как стали артикулироваться требования реформ «по совести» и насколько неоднозначные оценки вызвала перспектива введения суда присяжных, объявленная в 1862 году.
В итоге вторая часть этой книги позволяет соотнести движение к суду по совести в сфере судопроизводства и в сфере печати через признание значимым «чувства справедливости». Анализ этого чувства в рамках исследовательского подхода истории эмоций не входит в задачи этой книги. Апелляцию современников к «совести», «справедливости», «долгу», «истине» как к индивидуальным и коллективным переживаниям мы будем рассматривать как нарратив, специфическую форму выражения этических суждений современников, имевшую определенные задачи. В этой связи интересно рассмотреть вопрос, волновавший и современников реформы, но не получивший должного освещения в историографии: как в общественном сознании соотносилось благородное чувство (не)справедливости с ответственностью? Самое страшное преступление 1866 года – открытое покушение на жизнь императора – потребовало от публики исчерпывающих и публичных ответов на этот вопрос.
В третьей части (главы 7–9) речь пойдет о судебных практиках в первые годы Судебной реформы. В седьмой главе мы рассмотрим, как шокирующее преступление Каракозова стало испытанием для нового правосудия, резко обозначив проблему (без)ответственности прессы. Она возникла из‑за того, что Александр II принял решение судить Каракозова и его сообщников по новым Судебным уставам, но за закрытыми дверями Петропавловской крепости. Это означало, что впервые в российской истории обвиняемых в особо тяжком государственном преступлении защищали адвокаты. Законная защита студентов-нигилистов вызвала неоднозначную реакцию в печати – не допущенная в залу суда публика заявила о праве на собственное судебное разбирательство в печати.
Как показал К. Г. Боленко, Верховный уголовный суд над государственными преступниками был важным инструментом утверждения самодержавной власти как основанной на точном исполнении закона40. Тем интереснее казус 1866 года, когда, к большому раздражению сотрудников Верховного уголовного суда, специально созданного для процесса Каракозова, кампанию общественного обвинения подсудимых начали «Московские новости». В публичной сфере обозначился конфликт между законной государственной защитой предполагаемых пособников цареубийства и инициативным общественным обвинением. Обе стороны при этом интересным образом апеллировали к обязанностям и ответственности и претендовали на власть судить и выносить приговоры.
Анализ ранее не исследованных архивных и опубликованных материалов по истории процесса ишутинцев обращает внимание на очень интересную деталь. В новых пореформенных условиях те, кто обвинял и защищал подсудимых, инструментализировали требование Судебных уставов судить не только по закону, но и по совести. И подсудимые, и адвокаты просили Верховный уголовный суд и монарха о милостивом отеческом суде для блудных детей-нигилистов. При этом публика со страниц влиятельных изданий объявляла о своем милостивом прощении рядовых нигилистов. Получалось, что в своей милости публика ставила себя рядом с монархом с его особым правом царской милости. Наряду с апелляцией к милости в связи с раскаянием по совести на суде звучали и юридические аргументы, обсуждались правовые основы ответственности подсудимых.
Здесь к закрытому суду в крепости и открытому суду в газете Каткова нужно прибавить еще одну площадку суда – воображаемый суд совести, с которым познакомили русскую публику в 1866 году два экзотических литературных произведения: «Преступление и наказание» Достоевского и «Натурщица» Ахшарумова. Им посвящена седьмая глава. Эти произведения, написанные накануне открытия новых судов, будоражили читателей фантастической силой совести – личной совести Раскольникова у Достоевского – и полномочиями «Верховного трибунала общественной совести» у Ахшарумова. В этой главе показывается, что Ахшарумов и Достоевский прописали возможные в Санкт-Петербурге 1866 года репертуары говорения об убийстве по совести в рамках конфликта старого с новым. В обоих произведениях, близость фантастических сюжетов которых отмечали еще современники, совесть по-разному участвовала в разрешении конфликта отжившего прошлого и прогрессивного будущего. Совесть становилась источником неожиданных и веских аргументов в споре об ответственности за убийство.
Последняя глава посвящена заинтересовавшим публику судебным процессам 1867 и 1868 годов и проблематизации полномочий суда присяжных. Громкие оправдательные приговоры очевидно виновных чиновников под рукоплескания публики ставили вопрос о пределах компетенции «народных судей». Парадоксальным образом этическое не входило в конфликт с юридическим, о чем свидетельствует анализ специальной литературы и ее особого среза – диссертаций студентов юридического факультета Санкт-Петербургского императорского университета. Наконец, заключительная глава показывает, как радикальное применение этики в вопросах правосудия привело к существенной трансформации представлений о вине и ответственности образованного класса в столице Российской империи.
Благодарности
Эта книга не появилась бы на свет без истории моей семьи, в которой были свои судебные процессы, косвенно повлиявшие и на меня. В 1947 году моя 19-летняя бабушка по маме Нина Ивановна Панкова была привлечена к суду и оправдана за самовольное возвращение из Омска в Ленинград, где во время Блокады умерла ее семья. Мой дедушка по папе Георгий Михайлович Борисов являлся народным заседателем одной из коллегий Дзержинского народного суда Ленинграда именно в то время, когда там судили Иосифа Бродского. Уже завершив работу над рукописью, я узнала, что мои предки участвовали в земских и судебных учреждениях: мой прапрадед Григорий Васильев Борисов был гласным уездного земства, а брат его жены Андрей Глебович Мудролюбов – помощником секретаря Череповецкого окружного суда. Мои родители Алла и Юра и сестры Аня и Ира остаются самыми важными моими собеседниками, к которым присоединились Анатолий, Клим и Арсений. Их всех я благодарю за жизнеутверждающую любовь.
Мои друзья и коллеги Евгений Акельев, Джейн Бербанк, Таня Воронина, Екатерина Махотина, Елена Марасинова, Екатерина Правилова, Игал Халфин, Ксения Черкаева всегда вдохновляли меня своим примером и поддерживали в работе над книгой. Я особенно благодарна Елене Нигметовне Марасиновой, которая сподвигла меня закончить рукопись. В процессе написания книги мои прекрасные коллеги Дмитрий Бадалян, Елена Бородина, Митя Калугин, Дмитрий Руднев и Кирилл Чунихин читали главы, что было очень полезно. Из нашего общения с Митей Калугиным и Натальей Мовниной родился историко-филологический семинар НИУ ВШЭ СПб, который мы продолжаем. Наша прошедшая через огонь конструктивной критики дружба с Кириллом Ч. и Димой Б. – еще один замечательный плод работы над рукописью. Дружеское плечо Киры Ильиной, Натальи Макеевой, Елены Павловой, Ольги Путиной, Анны Толкачевой, Александры Шишовой и Любови Яковлевой всегда было моей опорой. Моей работе очень помогали рекомендации и доброе отношение сотрудников Российской национальной библиотеки (в особенности Никиты Елисеева, Михаила Шибаева, Дениса Шилова, Игоря Шундалова), Библиотеки Академии наук, Библиотеки юридического факультета СПБГУ (в лице Олега Анисимова), Российского государственного исторического архива, Государственного архива Российской Федерации (особенно В. В. Берсеньева) и Центрального государственного исторического архива С.-Петербурга.
Работа над книгой была долгой, и я хочу поблагодарить институты, в которых мне довелось работать, и коллег, повлиявших на меня. В департаменте истории Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге я счастлива работать с единомышленниками, которых очень ценю и благодарю за поддержку. Е. В. Анисимов, А. В. Бекасова, П. А. Васильев, А. М. Введенский, Е. В. Егоров, М. М. Дадыкина, Е. А. Калеменева, А. К. Касаткина, Т. А. Колесникова, И. Э. Кузинер, М. В. Лоскутова, С. В. Любавина, Л. Я. Рахманова, А. В. Резник, А. А. Селин, Н. В. Ссорин-Чайков и остальные коллеги, работать с вами большая честь и радость.
В Вышке мне очень повезло быть научной руководительницей талантливых коллег, которые любезно читали отдельные части книги и делились своими впечатлениями: Мария Старун, Райнер Матос, Александра Недопекина, Михаил Гречко, Екатерина Василик – спасибо вам. Моя благодарность Михаилу Гречко за его ценные комментарии и дружбу безмерна. Благодаря НИУ ВШЭ СПб я встретила Юрия Кагарлицкого, Елену Кочеткову, Сашу Ланге, Екатерину Лямину и Лоренца Эррена, которым признательна за то, как щедро они делились со мной своими знаниями и мыслями, навеянными отдельными главами книги.
Европейский университет в Санкт-Петербурге – моя alma mater, связью с которой я очень дорожу. Тем приятнее, что в процессе работы над книгой я стала ассоциированным сотрудником ЕУ СПб. Мои учителя и коллеги по ЕУ, настоящие и бывшие, – Д. А. Александров, В. Л. Каплун, Б. И. Колоницкий, М. М. Кром, Ю. А. Лайус, В. В. Лапин, А. И. Миллер, А. Пинский, Н. Д. Потапова, П. А. Рогозный, Ю. А. Сафронова, А. Т. Урушадзе, О. Хархордин, – ваши строгие лица были перед моими глазами, когда я работала над книгой. Хочу отдельно поблагодарить Н. Д. Потапову за ее внимательное и благожелательное чтение отдельных глав этой книги и за интеллектуальную щедрость.
Работа над этим долгосрочным проектом на начальных стадиях шла в Wissenschaftskolleg zu Berlin и в Принстоне. Общение с встреченными там коллегами Даниэлем Шонфлюгом, Майклом Гордином, Эрикой Майлам, Юрием Слезкиным, Сергеем Ушакиным, Ильей Виницким, Джонатаном Шинаном, Наташей Уитли, Джереми Аделманом, Йоханной и Мартином фон Коппенфельс, Барбарой Уэлке, Михаилом Долбиловым и Ричардом Уортманом было очень полезно для фокусировки моего исследования. Елена Ивановна Исаевич оказала неоценимую помощь в реализации этого проекта.
Сотрудничество с книжной серией «Интеллектуальная история» издательства «Новое литературное обозрение» было для меня праздником. Содержательное участие Михаила Велижева дало этой монографии очень много. Я особенно признательна Михаилу за то, что научным редактором текста стал К. Г. Боленко, работа с которым оказалась очень важным профессиональным диалогом, существенно обогатившим текст. А. А. Лухнева, В. С. Парсамов, Д. Ю. Полдников и Д. В. Руднев чрезвычайно помогли мне на этапе завершения рукописи, за что я их сердечно благодарю и очень надеюсь продолжить сотрудничество с ними в будущем. Галина Рулева оказала большую помощь в работе с корректурой.
Все возможные неточности, ошибки и заблуждения, естественно, на моей совести.
Часть I
От «судебной части» к «судебной власти»
Глава 1
«Образ законодательства»: законность самодержавного порядка и беззакония «судебной части»
Историю Судебной реформы 1864 года нельзя представить без двух событий, произошедших одновременно за тридцать лет до нее – в 1835‑м41. Это открытие Училища правоведения и введение в действие Свода законов Российской империи42. Создание Свода и открытие Училища стали возможны благодаря объединению усилий императора Николая I и выдающегося государственного деятеля М. М. Сперанского. Их совместная работа была направлена на удовлетворение давних государственных нужд, обозначившихся в правление Петра I и в той или иной степени занимавших его и всех последующих государей. Первое – отсутствие ясной системы законов. Второе – дефицит квалифицированных судебных кадров. Как писал один из первых исследователей Судебной реформы известный криминолог, выпускник Училища правоведения И. Г. Щегловитов, «мало сделать известными законы; нужно было подготовить деятелей, которые сумели бы приводить их честно и нелицеприятно в исполнение и наметить впоследствии способы их усовершенствования»43.
В приведенных словах Щегловитова проглядывает главное, что сделало будущую Судебную реформу возможной, – изменение представлений российской просвещенной публики о себе как о «деятелях», которые должны усовершенствовать государство. То, что Великие реформы не могли состояться без людей нового типа, – тема, которую уже давно разрабатывают исследователи. Начиная с масштабного библиографического труда под редакцией П. А. Зайончковского, создавшего основу для дальнейших разысканий У. Линкольна, Р. Уортмана, И. В. Ружицкой и других44, историки много сделали, чтобы изучить тип «просвещенного деятеля» на государственной службе середины XIX века. Чиновники нового типа стремились соотнести собственные нравственные идеалы и служебные обязанности.
Интересным образом этические приоритеты государственной службы стали значимой частью проекта «усиления законности» николаевского царствия. В чем заключалась внутренняя логика соединения морали и законности? Ответ на этот вопрос позволит нам понять движущую силу, подготовившую Судебную реформу в следующем царствовании. В ее поисках мы обратимся вначале к самим Сперанскому и Николаю I.
Государь и народ: образ гражданского законодательства
Из всего богатого наследия М. М. Сперанского, архитектора николаевской системы законности, необходимо выделить один малоизвестный рукописный документ45. Помощник Сперанского К. Г. Репинский, в фонде которого сохранилась эта записка, относил ее к ссыльным годам жизни своего патрона. Он осторожно предполагал, что «это были планы во время управления или Пензенской губерниею (1816–1818 г.), или Сибирью (1819–1821)»46. Записка-черновик оставалась обойденной вниманием исследователей из‑за ее незавершенности. Но именно черновой характер делает этот документ особенно интересным. В нем «золотое перо» русской бюрократии откровенно высказал тревожащие его мысли о ключевой проблеме государственного устройства Российской империи – о преобладании военного начала над гражданским, приказа над законом.




