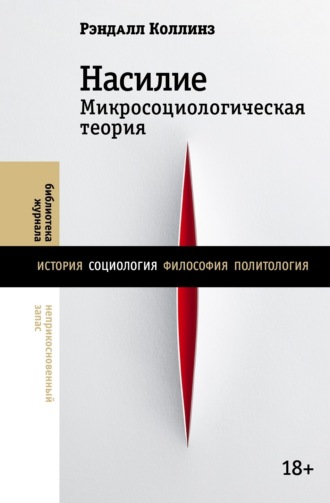
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Туман сражения имеет эмоциональную природу, и порой он бывает скучным, сонным, похожим на транс – некоторые солдаты описывают бой как движение во сне. Другие же ощущают сражение как замедление или ускорение времени – и в том и в другом случае происходит нарушение привычных ритмов социальной жизни [Holmes 1985: 156–157; Bourke 1999: 208–209], аналогичные типичные случаи из полицейских перестрелок приводятся в работах [Klinger 2004; Artwohl, Christensen 1997]. А поскольку наши эмоции и мысли формируются извне при помощи постоянных взаимодействий, оказавшись в зоне боевых действий, где обычные процессы вовлечения и взаимный фокус внимания резко нарушены, мы неизбежно должны ощущать другой ритм и другую тональность – ритмику, по большей части также нарушенную. В одних случаях эмоциональный туман настолько сгущается, что доходит до эмоционального хаоса или паралича, а в других это просто легкая дымка, в которой бойцы перемещаются с той или иной степенью эффективности.
Туман сражения – это образное наименование конфронтационной напряженности. Эта напряженность охватывает различные виды страха, содержащие в себе реальные объекты, которым могут уделять внимание бойцы: безопасность их собственных организмов; враг, которого не хочется видеть или не хочется видеть убитым; иногда к этому можно добавить страх насмешек, страх быть наказанным собственными командирами, страх подвести своих, страх прослыть трусом, а среди командиров это страх совершить ошибку, которая будет стоить жизни их людям. В поединках, не связанных с военными действиями, перечень страхов, как правило, короче. Однако во всех видах насильственных конфронтаций присутствует одна и та же базовая напряженность, и люди в таких ситуациях реагируют на нее практически одинаковыми способами и испытывают существенное влияние этой напряженности. Лежащая в основании насильственных конфронтаций напряженность представляет собой не страх перед неким внешним объектом, а борьбу противоположных тенденций к действию внутри нас самих.
Базовую напряженность можно назвать термином «несолидарная вовлеченность». Она возникает из попытки действовать против другого человека, а следовательно, и против собственных склонностей проявить солидарность с этим человеком, войти в общий ритм и общий когнитивный универсум. Это тем более сложно потому, что в ситуации насилия имеются собственные вовлеченность и фокус – в этом фокусе оказываются сам поединок, сама ситуация как имеющая насильственный характер, а порой и эмоциональная вовлеченность, в которой враждебность, гнев и возбуждение каждой из сторон заставляют другую сторону проявлять еще больше гнева и возбуждения. Однако эти элементы совместного осознания и вовлеченности еще больше усложняют задачу действия в данной ситуации таким образом, чтобы каждый мог эффективно осуществить насилие. Противники уже проделали определенный путь в направлении охваченности коллективной солидарностью – к тому, что Дюркгейм называл коллективным бурлением40, – но одновременно вынуждены радикально менять направление, так что каждый становится когнитивным чужаком для другого и каждый пытается навязать другому ритм доминирования и эмоцию страха.
Именно так выглядит напряженность конфронтационной зоны. Чаще всего эта напряженность слишком сильна: люди не могут приближаться к зоне конфронтации вплотную, довольствуясь язвительными словами, а порой и запуском ракет с большого расстояния, – либо приближение к зоне конфронтации происходит лишь ненадолго, а затем она отталкивает наши тела, эмоции и нервную систему. Если же участники сражения организованы таким образом, что им приходится оставаться в зоне конфронтации, либо принуждаются к этому, то они по большей части не демонстрируют высокую эффективность действий, а ценой нахождения в этой зоне, которую им придется заплатить, оказывается боевая усталость или нервный срыв.
Есть и еще один способ снятия напряженности. Находясь достаточно долгое время в ситуации высокой напряженности, пребывая на физическом и эмоциональном взводе, люди, участвующие в конфликте, иногда обретают возможность выпасть из зоны напряженности, но не в противоположную сторону от противника, а прямо по направлению к нему. Эту ситуацию мы именуем наступательной паникой – и это самая опасная из всех социальных ситуаций.
Глава 3
Наступательная паника
В апреле 1996 года два помощника шерифа из южной Калифорнии преследовали пикап, набитый нелегальными мексиканскими иммигрантами. Водитель грузовика объехал контрольно-пропускной пункт к северу от границы, отказавшись останавливаться ни поравнявшись с ним, ни затем, когда патрульная машина вела погоню на скорости более 100 миль [161 километр] в час. Во время погони, петляя между автомобилями на магистрали, люди, находившиеся в грузовике, бросали в полицейскую машину разный хлам и пытались таранить другие автомобили, чтобы отвлечь внимание преследователей. Почти через час, преодолев 80 миль, грузовик съехал на обочину, большинство из 21 его пассажира выбрались наружу и побежали в находившийся поблизости питомник растений. Полицейские догнали только двоих – женщину, которая с трудом открыла переднюю дверь кабины грузовика, и мужчину, оставшегося ей помочь; этих людей разъяренные полицейские избили своими дубинками. Один из помощников шерифа шесть раз ударил мужчину по спине и плечам, продолжая избиение, пока тот не упал на землю. А женщину после того, как она вышла из машины, этот полицейский дважды ударил по спине и повалил на землю, схватив за волосы, еще один удар дубинкой нанес его напарник. Избиение длилось около 15 секунд (см.: Los Angeles Times, 2 апреля 1996 года). Заключительную часть погони отслеживал вертолет теленовостей, камеры которого засняли избиение. Когда эти записи были продемонстрированы в эфире, поднялась общественная шумиха. Полицейские предстали перед судом, было начато федеральное расследование в связи с расовыми аспектами инцидента, а 21 нелегальному иммигранту, включая водителя грузовика, были предоставлены амнистия и разрешение на въезд в Соединенные Штаты.
Описанному инциденту присущ характер наступательной паники. То, что совершили полицейские, вероятно, представляет собой наиболее частую разновидность чрезмерной жестокости со стороны полиции, а возможно, и полицейского насилия в целом. Базовая структура такого рода взаимодействия – стремительное нарастание событий во времени – широко распространена и в гражданской, и в военной сфере. Вот один эпизод времен войны во Вьетнаме, который приводил лейтенант морской пехоты Филип Капуто:
Во время вертолетной атаки в зоне «горячей» посадки возникает гораздо более сильное эмоциональное давление, чем при обычном наземном штурме. Вы находитесь в замкнутом пространстве, где на вашу психику действуют шум, скорость, а прежде всего – ощущение полной беспомощности. В первый раз все это вызывает определенное возбуждение, но затем оказывается одним из наиболее неприятных переживаний, которые дает современная война. На земле пехотинец обладает определенным контролем над собственной участью – или по меньшей мере иллюзией такого контроля. Но в вертолете под огнем отсутствует даже иллюзия. Столкнувшись с безразличными силами гравитации, баллистики и техники, солдат разрывается сразу в нескольких направлениях под воздействием целого спектра экстремальных и противоречащих друг другу эмоций. В маленьком пространстве человека мучает клаустрофобия: ощущение ловушки и бессилия внутри машины невыносимо, и все же его приходится терпеть. Но это терпение приводит к тому, что солдат начинает испытывать слепую ярость к силам, которые сделали его беспомощным, однако он должен контролировать свою ярость, пока не выберется из вертолета и снова не окажется на земле. Он жаждет попасть на землю, но этому желанию противостоит опасность, о которой он знает. И все же опасность одновременно оказывается привлекательной, ведь ему известно, что он сможет преодолеть свой страх, только встретившись с ним лицом к лицу. Теперь его слепая ярость начинает фокусироваться на людях, выступающих источником опасности – и страха. Страх концентрируется внутри и при помощи ряда химических процессов преобразуется в яростную решимость бороться до тех пор, пока опасность не перестанет существовать. Однако эту решимость, которую иногда называют храбростью, невозможно отделить от вызвавшего ее страха. Сама мера этой решимости выступает мерой страха. По сути, это мощная неотложная потребность больше не бояться, избавиться от страха, устранив его источник. Эта внутренняя эмоциональная война порождает напряжение почти сексуального характера по своей интенсивности. Она слишком болезненна, чтобы долго ее терпеть. Солдат может думать лишь о том моменте, когда ему удастся вырваться из своего обессиливающего заточения и снять это напряжение. Все остальные соображения – прав он или неправ в своих действиях, каковы шансы на победу или поражение в бою, есть ли у боя цель или она отсутствует – становятся настолько абсурдными, что полностью теряют актуальность. Ничто не имеет значения, за исключением последнего, критического момента, когда солдат выпрыгивает из вертолета в катарсис насилия, к которому он одновременно стремится и который приводит его в ужас [Caputo 1977: 277–278].
Наступательная паника начинается с напряженности и страха в конфликтной ситуации. Это нормальное состояние для насильственного конфликта, но при его наличии напряженность нагнетается и нарастает; увеличивающаяся напряженность приобретает драматическую форму, стремясь к кульминации. Полицейская машина пытается догнать ускоряющийся грузовик; вертолет маневрирует, пробираясь через зону ведения огня, чтобы совершить посадку. Происходит переход от относительно пассивного состояния – ожидания, нерешительных действий до появления момента, когда можно будет довести конфликт до крайности, – к полной активности. Когда такая возможность наконец появляется, напряженность/страх выплескиваются наружу в эмоциональном порыве. Ардан дю Пик, наблюдая эту картину в сражениях, называл его «бегством в направлении фронта» [du Picq 1921: 88–89]. Это бегство напоминает панику, и действительно, их физиологические компоненты схожи: бойцы бросаются вперед, навстречу врагу, вместо того, чтобы убегать охваченными атмосферой, в которой бегство и страх подпитывают друг друга, как указано в теории эмоций Джеймса-Ланге1. Вне зависимости от направления бегства – вперед или назад – они в любом случае находятся внутри всепоглощающего эмоционального ритма, подталкивающего их к действиям, на которые они бы обычно не пошли по своей воле в спокойные, оставляющие время для рассуждений моменты.
Эта последовательная смена эмоций в деталях представлена в еще одном случае, который описывает Капуто. Поначалу он полон энтузиазма, возглавляя патруль. Однако его настроение резко меняется, когда трое его подчиненных, идущих впереди, обнаруживают вражеских солдат, не подозревая об их присутствии, в деревне, расположенной сразу за рекой. Теперь Капуто ощущает признаки крайнего возбуждения: «Мое сердце билось, как литавра, в которую колотят в туннеле». Отчасти эта реакция представляет собой подавление ожидания нападения, поскольку он пытается вести себя тихо, чтобы отползти в джунгли и вызвать больше своих людей для атаки. Когда начинается стрельба, Капуто мгновенно припадает к земле. «Ощущения от нахождения под огнем напоминают удушье: воздух внезапно становится смертоносным, как ядовитый газ».
А затем наступает эмоциональное переключение:
Меня охватило сверхъестественное ощущение спокойствия. Мой разум работал с быстротой и ясностью, которые я бы счел удивительными, будь у меня время на размышления… Весь план атаки промелькнул в моей голове за считанные секунды. Одновременно мое тело напряглось, готовясь к рывку. Совершенно независимо от моих мыслей и воли оно сосредоточилось на том, чтобы броситься к стоящим в ряд деревьям. Эта интенсивная концентрация физической энергии была порождена страхом. Я не мог оставаться в рытвине дольше нескольких секунд, поскольку дальше вьетконговцы начнут обстреливать меня как неподвижную мишень в незащищенной позиции. Я должен был двигаться, встретить и преодолеть опасность. Без команды со стороны сознания я устремился в лес и рухнул на тропу, [вызывая подкрепление].
Когда подкрепление прибыло, Капуто испытал восторг. Вся его группа, насчитывающая уже около тридцати бойцов, начинает стрелять и захватывать преимущество перед противником. Теперь Капуто «кричал до хрипоты, направляя огонь взвода. Пребывая в состоянии бешенства, морпехи поливали деревню огнем одним залпом за другим, некоторые нечленораздельно кричали, другие выкрикивали непристойности… Одна пуля щелкнула по земле между нами, мы откатились и снова вернулись на то же место, я истерически смеялся». Когда огонь противника стал затихать, а по рации поступили сообщения о том, что вьетконговцы отступают, Капуто стал искать способы переправить свой взвод через глубокую реку, чтобы добить неприятеля. «Взвод пришел в такое же возбужденное состояние, какое бывает у хищника, увидевшего спину своей убегающей жертвы… Я ощущал, как все бойцы хотят переправиться через реку» [Caputo 1977: 249–253]. Однако оказалось, что сделать это невозможно, и Капуто оказывается сложно выйти из состояния эмоционального подъема: «Я не мог оторваться от кайфа, порождаемого боем. Если не считать нескольких отчаянных выстрелов с обеих сторон, то бой закончился, но я хотел, чтобы он продолжался». После этого лейтенант намеренно появляется на виду у противника, чтобы вызвать огонь на себя, а его бойцы могли обнаружить снайпера: «Я ходил взад-вперед и чувствовал себя неуязвимым, как индеец в своей рубашке-невидимке». Однако это не вызвало никаких ответных действий, и Капуто начинает кричать и беспорядочно стрелять, а когда его солдаты начинают смеяться над ним, он тоже безудержно хохочет. В конце концов он успокаивается [Caputo 1977: 254–255].
Весь этот инцидент представляет собой пример наступательной паники со скомканным финалом, поскольку цель исчезла. Фоном для всего происходящего выступают напряженность/страх, время от времени переходящие в отрешенность, ясность, проблески паники/удушья; присутствуют и моменты восторга, когда у участников событий что-то получается. Когда в конце страх исчезает, Капуто впадает в неистовство, пытаясь найти хотя бы одну последнюю жертву.
Третий случай, который описывает Капуто, демонстрирует, как далеко могут зайти участники схватки, оказавшись в этой эмоциональной зоне. Солдаты Капуто, прижатые к земле огнем противника, продвигаются через деревню, в которой, как они были уверены, находилась вражеская база:
Шум сражения постоянно присутствовал и сводил с ума – точно так же как колючие изгороди и жар от огня, бушевавшего прямо за нами.
А потом случилось вот что. Взвод прорвало. Это была коллективная детонация эмоций людей, доведенных до предела выносливости. Я утратил контроль над ними и даже над собой. Отчаявшись добраться до холма, мы проскочили по остальной части деревни, вопя как дикари, поджигая соломенные хижины и бросая гранаты в цементные дома, которые было невозможно сжечь. В бешенстве мы продирались сквозь живые изгороди, не чувствуя раны от колючек. Мы вообще ничего не ощущали – ни сами, ни тем более то, что ощущают другие. Мы затыкали уши, чтобы не слышать крики и мольбы жителей деревни. Один пожилой мужчина подбежал ко мне и, схватив меня за рубашку, спросил: «Тай Сао? Тай Сао?» Почему? Почему?
«Убирайся с дороги, черт побери!» – ответил я, отдергивая его руки. Я схватил его за рубашку и сильно потянул его вниз, ощущая, как будто вижу себя в кино. Бо́льшая часть взвода совершенно не понимала, что делает. Один морпех подбежал к хижине, поджег ее, побежал дальше, развернулся, проскочил сквозь огонь и вытащил находившегося внутри ее обитателя, а затем рванул, чтобы поджечь еще одну хижину. Мы пронеслись по деревне, как ветер, и когда мы начали подниматься на холм 52, от Ха На не осталось ничего, кроме длинной полосы тлеющего пепла, обугленных стволов деревьев с обожженными листьями и груд раздробленного бетона. Это было одно из самых уродливых зрелищ, которые я видел во Вьетнаме: мой взвод внезапно распался, превратившись из группы дисциплинированных солдат в толпу поджигателей.
Из этого состояния безумия взвод вышел почти сразу. Наши головы прояснились, как только мы выбрались из деревни на чистый воздух на вершине холма. Эта случившаяся в нас перемена – от дисциплинированных солдат к необузданным дикарям и обратно – была настолько быстрой и глубокой, что заключительная часть сражения напоминала сон. Несмотря на все доказательства обратного, некоторым из нас было трудно поверить в то, что именно мы сотворили все эти разрушения [Caputo 1977: 287–289].
Солдаты вступают в эмоциональный туннель жестокой атаки, а затем в конце выходят из него. В деревне, где они ожидали встретить сопротивление, они обнаруживают не противника, а лишь беспомощных жителей, с которыми жестоко обращаются. Солдаты ощущают оторванность от самих себя – точнее, от собственного когнитивного образа самих себя – и впоследствии рассматривают свое поведение так, как будто это была особая реальность.
Описанное Капуто сожжение деревни напоминает более известный инцидент в общине Сонгми (деревня Май Лай), произошедший 16 марта 1968 года. Это был наиболее напряженный период войны во Вьетнаме, во время Тетского наступления, начавшегося шестью неделями ранее, когда войска Вьетконга и Северного Вьетнама временно захватили семь крупных городов и заставили американскую армию обороняться. Инцидент в Май Лай произошел во время контрнаступления, целью которого было вытеснить противника с захваченных территорий. Рота американских солдат высадилась с вертолета в районе, который давно считался оплотом Вьетконга, ожидая встретить значительное сопротивление. Подразделение, которое первым пошло на штурм, до этого никогда не было в бою, хотя уже понесло потери от мин и растяжек. Как оказалось, сил противника в Май Лай не было. После этого головной взвод впал в ярость, устроив сожжение домов и убив от 300 до 400 мирных вьетнамцев – большинство из них были женщинами и детьми, поскольку мужчины призывного возраста покинули деревню [Summers 1995: 140–141]. Этими убийствами с воодушевлением руководил командир взвода лейтенант Келли. Когда только год спустя резня в Сонгми получила официальное внимание, произошел невероятный публичный скандал.
Подобные инциденты были довольно распространены во время войны во Вьетнаме, несмотря на то что в ходе расследования были сделаны противоположные выводы. Данные случаи отличались лишь масштабами убийства мирных жителей и наличием или отсутствием таких дополнений, как нанесение увечий и изнасилования (см.: [Gibson 1986: 133–151, 202–203; Turse, Nelson 2006], www.latimes.com/vietnam). Как минимум все это представляло собой разрушительные оргии и вандализм в экстремальных масштабах. Учитывая специфику партизанской войны, условия для возникновения наступательной паники присутствуют часто. К ним относятся длительный период напряженности/страха, когда где-то рядом скрывается враг, но при этом есть серьезные подозрения, что обычная обстановка и мирное население являются прикрытием для внезапных нападений; действия по продвижению в этой опасной зоне, порождающие фрустрацию и ожидания, что враг вот-вот будет застигнут, и выступающие в качестве спускового крючка в ситуации, когда кажется, что это уже произошло; наконец, яростные разрушительные порывы. Регулярные войска, сражающиеся с партизанами, несут основные потери, когда их застают врасплох, хотя, когда они действительно настигают партизан, благодаря превосходству в вооружении им обычно удается одержать легкую победу. Именно легкость победы над врагом, которого приходится долго искать, способствует трансформации напряженности/страха в бешеный приступ наступательной паники. Тем более так происходит в ситуациях, когда оказывается, что противник вообще отсутствует, а вместо него обнаруживается лишь несколько беспомощных жертв, которые ассоциируются со стороной неприятеля – именно в этом качестве и выступили женщины и старики в Май Лай и женщина, находившаяся в пикапе, который на скорости удирал от полиции в Лос-Анджелесе.
Наступательная паника характерна для большинства инцидентов, связанных с насилием со стороны полиции, которые провоцируют публичные скандалы. Классическим примером является избиение чернокожего Родни Кинга в Лос-Анджелесе в 1991 году (см.: www.law.umke.edu/faculty/projects/ftrial/lapd). Сначала полиция гналась за автомобилем Кинга, превысившим скорость до 115 миль в час [185 километров в час], на протяжении восьми миль по магистрали и городским улицам. После того как по рации было запрошено подкрепление, к концу погони, когда Кинга удалось загнать в тупик позади жилого дома, на месте оказался 21 полицейский. Последние три с половиной минуты задержания были запечатлены на знаменитой любительской видеозаписи. Патрульные находились в возбужденном и напряженном состоянии после погони на большой скорости, их гнев усилился из‑за отказа Кинга повиноваться сигналам их сирен и остановиться, а также благодаря решимости победить в этой гонке и заставить Кинга повиноваться. Далее оказалось, что в преследуемой машине находились двое молодых чернокожих мужчин: один из них, сидевший на пассажирском кресле, согласился, чтобы его задержали, а другим был собственно Кинг – крупный мускулистый человек, которого полицейские приняли за бывшего заключенного, судя по его накачанному «телу уголовника»; кроме того, полицейские полагали, что он находится под воздействием наркотика «ангельская пыль». Но и на этом погоня не закончилась. Кинг не соглашался, чтобы его задержали, и устроил непродолжительную контратаку, бросившись на одного из правоохранителей; в этот момент его сбили с ног четверо полицейских с помощью своих дубинок и электрошокера, посылающего разряд высокого напряжения. Избиение дубинками продолжалось еще 80 секунд – именно этот фрагмент инцидента запечатлен на видео, – пока Кинг не был полностью обездвижен, а полицейские не приготовили свои автомобили к отъезду. Наиболее активный полицейский – тот самый, на которого напал Кинг, – нанес ему 45 ударов дубинкой2.
Среди просочившихся в СМИ сведений, которые привлекли внимание общественности и представили этот зверский инцидент особенно вопиющим, были свидетельства о том, какой эмоциональный настрой был у полицейских во время и после избиения. Несмотря на то что на месте происшествия присутствовал 21 полицейский, лишь четверо из них принимали участие в избиении, а остальные стояли вокруг в качестве группы поддержки, выкрикивая воодушевляющие фразы. Записи с полицейских раций после избиения Кинга также свидетельствовали о ликовании его участников: «Мы правда кое-кого немного побили… это были гориллы в тумане» (последняя фраза содержала намек на популярный в то время фильм об африканских гориллах). В больнице, куда Кинга доставили с травмами, один из сотрудников полиции, которого переполняло хорошее настроение, пошутил по поводу того, что Кинг работал на бейсбольном стадионе «Доджер»: «Правда же, мы сегодня сделали несколько хоумранов*?» Именно эту разновидность приподнятого настроения описывал Капуто в ситуации, когда сражение идет успешно, и в момент последующего восторженного «прихода».
Конфронтационная напряженность и ее разрешение: горячка, навал, чрезмерное насилие
Теперь обратимся к детальному рассмотрению эмоциональной последовательности. Сначала происходит накопление напряженности, которая высвобождается в виде яростной атаки, когда ситуация позволяет это сделать с легкостью. Один из выводов предыдущей главы заключался в том, что это состояние представляет собой напряженность/страх, свойственные конфликту в непосредственной конфронтации с другими людьми. Эта конфронтационная напряженность нарастает по мере того, как люди, находящиеся в состоянии конфликта, приближаются друг к другу, причем не только потому, что именно в этот момент кому-то может быть нанесен удар – именно в этот момент придется столкнуться с другим, подчинить его или ее своему насильственному контролю вопреки его сопротивлению.
Напряженность может складываться из различных компонентов. У полицейских, участвующих в погоне на скорости, присутствует определенное ощущение опасности от быстро движущихся автомобилей, особенно в тех случаях, когда им приходится уворачиваться от других транспортных средств и препятствий; ощущаемое ими напряжение отчасти может представлять собой возбуждение, а отчасти разочарование от того, что они еще не поймали преследуемого. Для полицейских эта ситуация выступает усугубленным вариантом их привычного подхода к гражданским лицам, в особенности к подозреваемым: их усилия всегда направлены на то, чтобы контролировать ситуацию взаимодействия [Rubinstein 1973]. Сопротивление обычного гражданина стремлению сотрудника полиции контролировать ситуацию вызывает конфронтационную напряженность, повышая вероятность того, что полицейский использует не только свою официальную власть, но и неформальное давление, чтобы овладеть ситуацией. Как следует из этнографических наблюдений Джонатана Рубинстейна, полицейские стараются занимать такую позицию в пространстве, чтобы контролировать каждого, кого они останавливают для опросов; диапазон их невербальных маневров варьируется от положения, позволяющего обезоружить человека или одолеть его, до соприкосновения с ним при рядовом досмотре. Как минимум полицейские осуществляют более тонкий контроль, агрессивно используя взгляд при длительном и преднамеренном наблюдении за другим человеком, вопреки нормальным в приличном обществе обменам взглядами и зрительным контактам. Таким образом, во время погони полицейские получают длительный опыт обманутых ожиданий, оказываясь в ситуации, на которую они обычно не рассчитывают в ходе любого взаимодействия.




