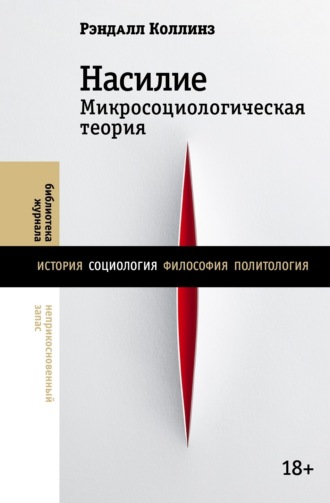
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
С этим связана еще проблема: обстоятельства, вызывающие наибольший страх, объективно не обязательно являются наиболее опасными. Как уже отмечалось, к наибольшим потерям на войне приводят обстрелы из артиллерийских орудий и минометов – и сами солдаты об этом, как правило, знают [Holmes 1985: 209–210], – однако наиболее сложная задача в поведении в бою заключается в том, чтобы противостоять огню из стрелкового оружия на переднем крае зоны боевых действий. Некоторые опросы демонстрируют относительно высокий страх быть убитым штыком или ножом – в действительности такое происходит до фантастичности редко, но по этим данным исследований можно судить о качестве представлений солдат о том, что их ждет в бою. Кроме того, не все люди, находящиеся в особо опасных ситуациях, демонстрируют признаки обездвиживающего страха, воздействующего на солдат на линии фронта [Grossman 1995: 55–64]. Например, военные моряки в дополнение к перспективам утонуть подвергаются таким же, как и армейские солдаты, рискам быть разорванными на части вражескими снарядами – именно так выглядит основная причина потерь в сухопутных сражениях. Однако имеющиеся данные о затяжном упадке сил от боевого стресса, являющегося одним из аспектов страха перед боем, демонстрируют, что у моряков в зонах боевых действий такие расстройства случаются гораздо реже. То же самое характерно и для гражданского населения, подвергавшегося бомбардировкам, – в качестве примеров можно привести такие продолжительные серии налетов времен Второй мировой войны, как немецкие воздушные атаки против Англии или бомбардировки союзниками городов Германии. Жертвами таких атак оказывались люди, сгоревшие заживо или получившие несовместимые с жизнью телесные повреждения от ожогов. Тем не менее уровень психических расстройств среди гражданских лиц в местах, подвергшихся бомбардировкам, был незначительным по сравнению с солдатами действующей армии.
В чем именно заключается источник напряженности/страха, становится ясно из нескольких тщательно подобранных сравнений. У военнопленных, находившихся под обстрелом или воздушной бомбардировкой, не наблюдалось повышенного уровня психических расстройств, тогда как охранявшие их лица определенно испытывали возрастание напряженности, если исходить из того, что среди них масштабы психических проблем увеличивались [Grossman 1995: 57–58; Gabriel 1986, 1987]. Иными словами, те, кто охранял пленных, по-прежнему находились в боевом режиме – возможно, потому что противник оставался у них прямо перед глазами, а им еще нужно было попытаться сохранить контроль над ним, – тогда как военнопленные оказались в таком положении, что им надо было просто потерпеть. Кроме того, как указывает Дейв Гроссман, к психическим расстройствам не приводит участие в разведывательных вылазках в тыл врага, хотя это чрезвычайно опасно [Grossman 1995: 60–61]. Причина, по мнению Гроссмана, заключается в том, что во время таких мероприятий солдаты собирают информацию, оставаясь невидимыми, а прежде всего они позволяют избежать нападения на врага. Среди боевых командиров масштаб психических расстройств также был гораздо меньше, хотя в большинстве войн физические потери среди них были в относительном эквиваленте значительно выше, чем среди их подчиненных [Grossman 1995: 64]. Как видно, в данном случае источником напряженности не является ни страх смерти и ранений, ни принципиальное отвращение к убийству, поскольку командиры отвечают за то, чтобы отправлять своих людей совершать убийства, и действительно заставляют их преодолевать собственные страх и отсутствие соответствующих навыков. Отличие, которое, по-видимому, избавляет командиров от напряженности/страха, заключается в том, что лично им убивать не приходится. То же самое относится к солдатам, которые не стреляют из своего оружия, но часто выполняют другие полезные задачи на поле боя, например помогают заряжать оружие тех, кто ведет огонь [Grossman 1995: 15]. Этот момент свидетельствует о том, что зачастую они готовы подвергать себя такой же опасности, как и те, кто стреляет. Дело вовсе не в том, что такие солдаты против убийств, – они попросту не могут заставить себя совершать их своими руками.
Медики во время сухопутных сражений подвергаются опасностям того же рода, что и пехотинцы, однако для них характерен гораздо меньший уровень утомления от боя [Grossman 1995: 62–64, 335]. Еще более распространенными среди медиков, по-видимому, являются действия с максимальным уровнем эффективности: в ходе войн, которые США вели в ХX веке, врачи получали большое и постоянно возраставшее количество медалей за отвагу, что свидетельствует о высоком уровне их храбрости [Miller 2000: 121–124]. При этом уровень выполнения стандартных действий у медиков в бою выше, чем у обычных солдат: ни разу не доводилось слышать, чтобы военные врачи не исполняли своих обязанностей в масштабе, сопоставимом с долей солдат, не использующих оружие по назначению, – хотя в том случае, если бы медики уклонялись от оказания помощи раненым, солдаты на поле боя могли бы на это пожаловаться. К тому же именно медики наиболее часто становятся свидетелями болезненных и калечащих последствий неприятельского огня. Все это указывает на наличие у них некоего социального механизма, позволяющего дистанцироваться от страха получить ранение, а что еще важнее, от более общего источника напряженности/страха в бою. Медики сосредоточены не на противостоянии с врагом, не на убийстве, а на спасении жизни. Они переворачивают привычный гештальт восприятия ранений, видя их в иной системе координат – именно этот момент и отправляет их в гущу боя34.
Еще одним свидетельством того, что страх перед ранением не является единственным источником напряженности, выступает тот факт, что признаки страха присутствуют даже среди тех, кому принадлежит преимущество, а риск получить увечье невелик либо отсутствует. Опросы вооруженных бандитов и их жертв демонстрируют, что во время налетов возникает высокая напряженность; человек, умудренный опытом поведения на улице в районах с высоким уровнем преступности, знает, что для выживания в этой ситуации нужно не допустить, чтобы налетчик переступил черту, отделяющую напряженность от стрельбы. Особенно важно избегать смотреть ему в глаза – не просто потому, что этот человек может быть узнан, а еще и во избежание зрительной конфронтации, которая создает ощущение враждебного вызова [Anderson 1999: 127]35. Поэтому в наполненной насилием уличной среде вызывающее столкновение глаза в глаза может легко спровоцировать драку даже в ситуациях, не связанных с вооруженными налетами.
Все это подразумевает, что напряженность самой конфронтации и есть самая главная искомая характеристика. Гроссман [Grossman 1995] называет ее страхом убивать. Маршалл в своей более ранней интерпретации свидетельств, полученных от военных, предположил, что стандарты цивилизованного поведения, глубоко укоренившиеся в опыте мирной жизни, формируют нечто вроде блокирующего механизма против попыток убийства других людей, даже если это неприятель, который пытается убить вас самих. Однако эта модель культуры как сдерживающего фактора (cultural-inhibition model) не предоставляет адекватного объяснения диапазона культурных настроек, в рамках которых напряженность/страх препятствуют (inhibits) результативности в бою. Войны между племенами также демонстрируют низкий уровень эффективности и высокий уровень страха в поведении на линии фронта; результативность действий боевых подразделений одинакова в любые периоды истории – включая те общества, в культуре которых одобряется крайняя свирепость по отношению к врагам. А в пределах одних и тех же обществ и вооруженных сил та степень, в которой агрессивное поведение сдерживается страхом, во многом зависит от конкретной ситуации: те, кто предпочитает не применять свое оружие или плохо использует его в ожесточенных конфронтациях, могут демонстрировать полнейшую беспощадность в ситуациях, когда происходит массовое уничтожение противника из засады или пленных в осажденном городе. Напряженность/страх представляются чем-то универсальным для всех культур – как тех, которые претендуют на репутацию свирепых, так и тех, которые заявляют о своей миролюбивости. То же самое можно утверждать и об обстоятельствах, в которых происходит преодоление напряженности/страха, порождающее насилие. И даже в современных западных обществах, где присутствует культурная социализация, направленная против насилия, вы можете оказаться в рядах публики, наблюдающей и поощряющей серьезную жестокость и нанесение вреда (об этом подробно пойдет речь в главе 6). Но те же самые люди, которые с энтузиазмом относятся к насилию в качестве зрителей, ведут себя чрезвычайно сдержанно, оказываясь в конфронтации лицом к лицу со своими противниками.
В таком случае не имеем ли мы дело с первозданной неприязнью к убийству? Согласно этой гипотезе, антипатия к убийству себе подобных заложена в человеке генетически. Этот запрет не настолько силен, чтобы его не могли преодолеть другие мощные социальные силы, но если убийство все же происходит, люди испытывают дурные ощущения, а их дискомфорт проявляется в различных физических и психологических симптомах. Как утверждает Гроссман, солдаты, которых приучили убивать, платят за это персональную цену в виде боевого стресса и нервных срывов [Grossman 1995].
Однако эта линия аргументации заходит слишком далеко. В итоге люди действительно убивают и наносят ранения друг другу в различных ситуациях, которые можно в точности идентифицировать. А эти социальные механизмы нередко оправдывают убийство в глазах тех, кто в нем участвует, благодаря чему они не ощущают никаких невротических последствий. В последующих главах мы рассмотрим некоторые подобные структуры, при помощи которых убийство и нанесение ранений другим морально нейтрализуются или даже получают моральное одобрение. В фильме «Мертвые птицы» одно из племен устраивает празднование после убийства неприятеля, а среди выражаемых его участниками чувств мы наблюдаем не вину, а радость и энтузиазм.
Конфронтационная напряженность возникает в любых ситуациях, связанных с потенциальным насилием. Это не просто страх совершить убийство, поскольку напряженность наблюдается и в тех случаях, когда нападающие намереваются просто кого-то избить, а фактически и даже когда они лишь угрожают затеять гневный спор. Угрожать кому-либо убийством или противостоять кому-то, кто угрожает убийством или нанесением серьезных увечий вам, – все это лишь отдельные составляющие более масштабного феномена конфронтационной напряженности. Способность людей совершать насилие над себе подобными зависит не только от присутствующих на заднем плане социального давления и поддержки, которые вталкивают нас в эту ситуацию и обеспечат вознаграждение после ее преодоления, но и от социальных характеристик самой конфронтации. Как демонстрирует Гроссман [Grossman 1995: 97–110], степень готовности стрелять в противника зависит от физической дистанции до этого человека. Пилоты бомбардировщиков, операторы баллистических ракет большой дальности и артиллеристы достигают самых высоких показателей ведения огня и обладают максимальной готовностью убивать противника, ведь мишень для них наиболее обезличена, даже несмотря на то что эти лица вполне могут отчетливо осознавать человеческие жертвы, которые они причиняют. Все это напоминает повышенный масштаб риторической кровожадности, наблюдаемый в тыловых районах боевых действий и среди гражданского населения по сравнению с солдатами на линии фронта. Этому явлению можно дать следующую интерпретацию: напряженность столь слабо сдерживает конфликтное поведение указанных людей не потому, что они не осознают, что их мишенью выступают другие люди, а потому, что они не находятся с ними в телесном контакте лицом к лицу.
Трудность в совершении насильственных действий возрастает по мере того, как социальная ситуация обретает более четкую направленность. Вести огонь из стрелкового оружия или ракетных установок на расстоянии в несколько сотен метров легче, чем с близкой дистанции. А когда последнее все же происходит, огонь зачастую приобретает беспорядочный характер – наглядным подтверждением этого являются перестрелки с участием полиции, когда ее сотрудники часто промахиваются с расстояния в десять футов [3 метра] или даже меньше, хотя на тренировочных стрельбах метко попадают по мишеням, расположенным на многократно большем расстоянии [Klinger 2004; Artwohl, Christensen 1997]. Еще меньше дистанция при убийстве холодным оружием: копьями, мечами, штыками, ножами – либо дубинками или другими тупыми предметами. В войнах Античности и Средневековья, судя по соотношению потерь на поле боя, подобное оружие, похоже, использовалось крайне неумело: большинство убийств с его помощью происходило в возникающем при снятии напряженности состоянии наступательной паники, к рассмотрению которого мы вскоре обратимся. Мечи и ножи использовались в основном для нанесения резаных ударов, даже несмотря на то что удар вперед прямо в тело противника позволяет нанести гораздо более рискованную для жизни рану [Grossman 1995: 110–132]. Для войн Нового времени имеются более детализированные соответствующие данные: убийства при помощи штыка происходят крайне редко – например, в статистике ранений, полученных участниками сражений при Ватерлоо и на Сомме, на них приходится существенно меньше 1% [Keegan 1977: 268–269]. В окопной войне (главным образом во время Первой мировой) солдаты, успешно штурмовавшие траншеи противника, предпочитали бросать туда гранаты, что позволяло им находиться на несколько большем расстоянии и вне поля зрения людей, которых они убивали; солдаты с винтовками с несъемными штыками обычно разворачивали их прикладом вперед и использовали их как дубинки, а некоторые военные (в особенности немцы) предпочитали использовать в качестве дубинок лопаты, которыми они копали траншеи [Holmes 1985: 379]. Похоже, что особое затруднение вызывает ситуация, когда с другим человеком требуется столкнуться лицом к лицу и вонзить в него острие ножа. Когда при нападении используются ножи (например, в боевых действиях с участием коммандос), заведомо предпочтительным способом убийства является удар сзади, чтобы не видеть глаз жертвы [Grossman 1995: 129]. Точно так же обстоит дело с зафиксированными в исторических источниках нападениями с ножом – в частности, в Амстердаме в раннее Новое время большинство таких нападений делалось сзади или сбоку, а лобовые атаки случались редко [Spierenburg 1994]. В эту же модель укладываются процедуры смертных казней. Лицо, которое приводит приговор в исполнение, практически всегда стоит позади казнимого, избегая столкновения лицом к лицу, – вне зависимости от того, идет ли речь о церемониальном обезглавливании приговоренного топором или мечом либо об агентах криминалитета или эскадронов смерти, стреляющих жертве в затылок. Аналогичным образом похищенных людей с большей вероятностью казнят, если у них завязаны глаза [Grossman 1995: 128]. С точки зрения социального взаимодействия, именно в этом заключается смысл завязывания глаз человеку, стоящему перед расстрельной командой, причем это в равной степени идет на пользу как ее участникам, так и самой жертве.
Особые трудности, связанные с убийством жертв лицом к лицу, выпукло демонстрируют свидетельства о массовых расстрелах во время Холокоста, которые осуществляла немецкая военная полиция (military police) [Browning 1992]36. Их жертвы были почти полностью беспомощны и пассивны, а солдаты в целом были восприимчивы к идеологической атмосфере нацистского антисемитизма и военной пропаганды, а также сохраняли характерную для военных сплоченность в собственных рядах. Тем не менее подавляющее большинство находило эти убийства отвратительными, и даже после того, как к ним возникало существенное привыкание, они продолжали чрезвычайно угнетать их исполнителей. Психологическая неприязнь к убийствам была особенно сильной, когда солдаты находились в тесном контакте со своими жертвами, большинство из которых они расстреливали в упор в затылок, заставив их упасть на землю навзничь. Но даже на таком расстоянии солдаты часто промахивались [Browning 1992: 62–65]. В качестве примечательного примера отторжения человеческого организма к господствующей идеологии можно привести одного убежденного нациста, у которого возникли боли в животе, и это психосоматическое заболевание не позволяло ему лично присутствовать при массовых казнях, которые проводили его подчиненные [Browning 1992: 114–115]. Этот человек оправился от болезни после того, как его перевели в регулярные войска на передовой, где стрельба велась на приличном расстоянии, и затем отличился в бою.
Дисфункции пищеварительной системы, присутствующие в ситуациях с высокой напряженностью и страхом, возникают при различных конфронтациях – от солдат, обделавшихся в бою, до взломщиков, чье присутствие становится явным для полиции благодаря выделяемому ими запаху37. Иными словами, расхожие выражения «стойкость кишечника» и наличие «внутренностей» или «желудка» для борьбы – это не просто метафоры: данные идиомы заодно указывают на глубокое отвращение организма к насилию, которое требуется преодолеть тем, кто успешно его совершает38.
Сама антагонистическая конфронтация как феномен, отличный от насилия, обладает собственной напряженностью. Люди, как правило, избегают конфронтации даже в сугубо вербальном конфликте, ведь мы гораздо более склонны делать негативные и враждебные утверждения в адрес тех, кто не находится в непосредственной близости, чем тех, с кем мы разговариваем в данный момент. Анализ различных разговоров, записанных на пленку в естественной обстановке, демонстрирует сильную склонность людей к согласию с собеседником [Boden 1990; Heritage 1984]39. Следовательно, конфликт проявляется в основном на расстоянии и по отношению к отсутствующим лицам. Поэтому в моменты, когда конфликт доходит до непосредственной микроситуации, в его осуществлении – в особенности насильственном – возникают значительные затруднения.
Давайте сравним то, что нам известно о взаимодействии между людьми с другой стороны – нормальном взаимодействии, а не насилии. Основная тенденция здесь заключается в том, что люди попадают в фокус взаимного внимания и вовлекаются в телесные ритмы и эмоциональные тональности друг друга (свидетельства, подтверждающие эту закономерность, в сжатом виде приведены в одной из моих предыдущих работ [Collins 2004]). Данные процессы имеют бессознательный и автоматический характер. К тому же они чрезвычайно привлекательны, ведь к самым приятным человеческим занятиям относятся те виды деятельности, где мы захвачены выраженным ритмом микровзаимодействий. Вот ряд соответствующих примеров: плавно текущая беседа в такт общим интонационным акцентам, смех у всех присутствующих, энтузиазм толпы, взаимное сексуальное возбуждение. Обычно эти процессы представляют собой ритуал взаимодействия, доставляющий ощущения интерсубъективности и моральной солидарности – по меньшей мере в тот момент, когда все это происходит. Конфликт лицом к лицу сложен в первую очередь потому, что нарушает эту общую осознанность и телесно-эмоциональную вовлеченность. А насильственное взаимодействие тем более сложно, ведь победа в схватке зависит от того, удастся ли нарушить ритмы противника, прорваться сквозь его режим вовлечения (mode of entrainment) и навязать собственные действия.
Для вступления в насильственную конфронтацию имеется некое ощутимое препятствие. Такая конфронтация противоречит нашим физиологическим «системным настройкам», человеческой склонности к вовлеченности в микроинтеракционные ритуалы солидарности. Требуется полностью отключить чувствительность к сигналам ритуальной солидарности, передающимся от одного человека к другому, чтобы взамен сосредоточиться на использовании слабостей другого в собственных интересах. Солдаты, приближающиеся к зоне боевых действий, вступают на территорию, где собственным телом ощущают, что расстояние до неприятеля сокращается и они становятся все ближе именно к такому типу конфронтации. Вплоть до этого момента солдаты взаимодействуют почти исключительно друг с другом, с друзьями или привычными партнерами по коммуникации. В том, что они сообщают друг другу, и в тех чувствах, которые они испытывают и демонстрируют, может содержаться значительный объем негатива в отношении противника – его-то, в конце концов, здесь нет! В микроситуационной реальности тыловых территорий или военных баз вдали от фронта присутствуют только «все наши», даже если в их разговорах противник обозначается как некий символический объект, определяющий внешние границы этой группы. Но по мере приближения к фронту внимание все больше переключается на врага, обладающего реальным социальным присутствием. Как только это происходит, солдаты испытывают все большие сложности с тем, чтобы стрелять из своего оружия, и даже с тем, какое положение занимать по отношению к противнику, о чем свидетельствуют их позы. Все это можно заметить по снимкам солдат Первой мировой войны, которые выходят из траншей, вступая в «серую» зону (no-man’s land): на всех фото солдаты наклоняются вперед, как будто под сильным порывом ветра – но виной тому не реальный ветер, а градиент неуклонного приближения к неприятелю с расстояния. Храбрость солдат Первой мировой заключалась не столько в том, чтобы стрелять из своего оружия, сколько в том, чтобы идти вперед навстречу яростному огню. Их мужество было не столько в том, чтобы убивать, сколько в том, чтобы быть убитыми.
Как уже отмечалось, командиры в целом проявляют в бою меньше страха, чем люди, которые находятся под их началом. На уровне микровзаимодействий командиры даже близко не испытывают столь же значительную вовлеченность в конфронтацию. Командиры фокусируют внимание – а заодно и глаза – на взаимодействии со своими солдатами, стараясь со своей стороны поддерживать позитивный поток координируемой вовлеченности. Командиры не концентрируются исключительно на противнике, тогда как основную тяжесть конфронтационной напряженности несут их подчиненные, пытающиеся использовать свое оружие.
Именно поэтому глаза играют настолько значительную роль в насильственных столкновениях. Солдаты, парализованные ужасом, отводят глаза точно так же, как совершают по-детски магические жесты, направленные на то, чтобы остаться незамеченными противником. Победителям сражений ненавистно смотреть в глаза врагам, которых они убивают. Даже в обычной жизни соперничество пристальных взглядов трудно выдержать больше, чем несколько секунд, а зачастую оно не длится дольше нескольких долей секунды [Mazur et al. 1980]. Например, для вооруженных грабителей конфронтации глаза в глаза с жертвой, сколь бы обрывочный характер они ни носили, похоже, невыносимы.
Приближаясь к этому невидимому, но тактильно и телесно ощущаемому барьеру, некоторому меньшинству участников боевых действий (в меньшинстве случаев) удается его преодолеть. Зачастую это происходит при помощи внезапного рывка, напоминающего проталкивание сквозь стеклянную стену с последующим бесконтрольным падением на другую сторону – именно по ту сторону стены происходит наступательная паника, и теперь вся напряженность выливается в атаку. Для некоторых бойцов упомянутый барьер оказывается сниженным более постоянным способом или по меньшей мере на продолжительный период времени – они находятся в субъективной зоне сражения, где ведут огонь, берут на себя инициативу, а иногда даже метко стреляют. Именно эти люди составляют элиту насилия. Более подробно она будет рассмотрена в главе 8, а сейчас можно отметить, что данная группа также сформирована барьером напряженности/страха, который представляет собой эмоциональную структуру боевой ситуации – в совершенно буквальном смысле речь идет об эмоциях, распределенных по некоторому участку пространства. Одни люди – безэмоциональные или хладнокровные – воспринимают напряженность/страх других с отстраненной дистанции; их успех обусловлен именно таким отношением к напряженности/страху. Другие – горячие и неистовые – подпитываются чужим страхом не столько осознанно, сколько с помощью своего рода асимметричной вовлеченности, когда страх одной стороны противостояния влечет за собой неистовую атаку другой.
Поле боя часто описывается идиомой «туман сражения» – всепроникающая неразбериха, спешка и затруднения с координацией действий присутствуют на многих уровнях: организационном, коммуникативном, логистическом и (буквально) визуальном. Как уже было сказано, самым значительным компонентом тумана сражения является напряженность прорыва сквозь привычную солидарность взаимодействия. К нему же относятся и другие компоненты, связанные со страхом – страх убийства других людей, а также страх ранения, увечья и собственной смерти. Все эти страхи сцепляются в более сильное ощущение напряженности. Тот или иной из этих отдельных страхов можно успокоить или снизить до такого уровня, когда он оказывает умеренное или незначительное влияние на эффективность действий. Так в особенности обстоит дело со страхом ранения или смерти, который, по-видимому, легче всего преодолеть с помощью социальной поддержки или под социальным давлением. Страх убийства других людей тоже можно превзойти, в особенности при помощи трансформации коллективной напряженности сражения в моменты вовлеченности в агрессию. Именно поэтому я полагаю, что самой глубокой эмоцией является напряженность самого конфликта, которая формирует поведение его участников даже в те моменты, когда они преодолевают тот аспект страха, что побуждает их отступать или убегать.




