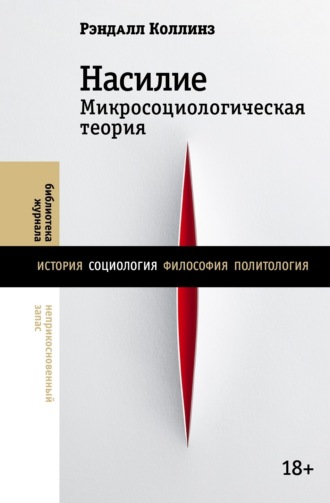
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
В реальном бою радость появляется реже. Здесь нам требуется очень точно определить характер переживаемого опыта. Учитывая установленный Маршаллом факт, что огонь в бою ведет незначительная доля солдат, это не обязательно опыт стрельбы из оружия – и не опыт попадания в противника, поскольку эффективность стрельбы низка. В связи с этим Бурк приводит слова одного британского летчика времен Второй мировой войны, которому нравился сам звук стрельбы: «Какой восторг!» [Bourke 1999: 21]. Как отмечали Маршалл и другие авторы, солдаты обычно считают наиболее приятной частью военной подготовки стрельбы на полигоне, однако это совершенно иные ощущения в сравнении с попаданием в противника.
Наконец, обратимся к выражению положительных эмоций по поводу убийства неприятеля. В той же работе Бурк цитируются письма, дневники и воспоминания англоязычных солдат, участвовавших в двух мировых войнах, а также в войнах в Корее и Вьетнаме, – британцев, канадцев, австралийцев и американцев. Лишь в четырех из 28 соответствующих случаев, которые приводит Бурк, описывается нечто похожее на сексуальное удовольствие во время убийства; еще в девяти случаях отмечается возбуждение или неистовство при убийстве с близкого расстояния, когда врага можно реально увидеть. Последние случаи, как правило, напоминают особую ситуацию «наступательной паники», которая будет описана в главе 3. В остальных случаях – на них приходится половина или даже более свидетельств, собранных Бурк, – перед нами убийства на значительном расстоянии, меткая стрельба в исполнении бывших охотников или победы летчиков-истребителей. Однако, как будет показано в главе 11, снайперы и летчики-асы являются самой необычной группой бойцов: их умения проявляются там, где большинство остальных не обладают компетенциями, благодаря наличию у них особых эмоциональных приемов преодоления конфронтационной напряженности. При тщательном рассмотрении выясняется, что многое из того, что Бурк интерпретирует как радость от убийства, представляет собой выражение гордости или облегчения от успешных действий. Большинству пилотов не удается сбить ни одного вражеского самолета, а к тем, кто смог это сделать, относятся как к особой элите.
Среди той относительно небольшой доли солдат, которые совершают убийства в бою, присутствуют самые разнообразные эмоции: холодность и деловитость, гордость за собственное мастерство, приподнятое настроение от хорошо выполненной работы, ненависть, неистовство, чувства, связанные с отмщением за погибших товарищей, несомненное удовольствие. Трудно сказать, какая доля солдат испытывает те или иные из перечисленных эмоций, однако для теоретического объяснения важнее выяснить, в каких условиях это происходит. Кроме того, положительные эмоции, связанные с убийством, следует сопоставлять с отрицательными – в качестве примера можно привести следующий эпизод, имевший место в ходе Боксерского восстания:
[Британский морской пехотинец] в начале осады проткнул какого-то человека штыком, вогнав его до упора в грудь, а затем разрядил в тело все патроны своего ружья. Теперь же, переживая сильную психическую травму, он лежит, мечась из стороны в сторону, и пронзительно кричит час от часу: «Как она брызжет! Как она брызжет!» [Preston 2000: 213].
Континуум напряженности/страха и эффективность в бою
Солдаты могут вести себя в бою самым разнообразным образом. Лучше всего рассматривать эти варианты поведения в виде континуума с различными степенями и разновидностями напряженности и страха, с различными уровнями неумелости или мастерства в проистекающих из этого действиях. На одном конце данного континуума оказываются оледенелая неспособность к действию, зарывание в землю или попытка по-детски спрятаться из поля зрения врага. Следующий шаг – паническое отступление. Далее следуют обделанные штаны – физические проявления страха, которые необязательно мешают по меньшей мере выполнять движения, требуемые боевой обстановкой. К этой части континуума также относятся отставание от линии фронта, поиск оправданий для любых действий, лишь бы не двигаться вперед, и исчезновение с позиций [Holmes 1985: 229]. Далее располагаются следующие действия: солдат может продвигаться вперед без стрельбы; не стрелять самостоятельно, но помогать тем, кто стреляет, например поднося боеприпасы или перезаряжая оружие; стрелять из своего оружия, но неумело, не попадая в противника. Наконец, в самом конце континуума находятся точная и своевременная стрельба, а также другие агрессивные перемещения во время боя. На данный момент мы не располагаем четкими свидетельствами относительно того, какие эмоции испытывает человек на этом высшем уровне умелого насилия. Быть может, здесь просто нет внешних проявлений страха, а полное отсутствие субъективного или скрытого страха случается реже? Об отсутствии страха в бою сообщают относительно немногие [Holmes 1985: 204]. Не на этой ли оконечности континуума обнаружатся ликование и наслаждение боем? – а то и такая более экстремальная эмоция, как удовольствие от убийства? На сей счет существуют разнообразные народные теории, однако по-прежнему необходимо выяснить, является ли умелое насилие «горячим» или «холодным».
Здесь можно вновь обратиться к фотографическим свидетельствам. На фотоснимках боевых действий из источников, перечисленных в прим. 8 на с. 908–909, по видимым лицам и позам солдат можно судить об эмоциях 290 человек28. Распределение этих эмоций выглядит следующим образом:
Сильный страх: 18%
Легкий страх, опасение, беспокойство: 12%
Ошеломленность, изнеможение, печаль, страдание, боль: 7%
Пронзительные вопли, выкрикивание приказов, призывы о помощи: 2%
Напряженность, настороженность: 21%
Бдительность, сосредоточенность, серьезность, старание: 11%
Нейтральность, спокойствие, бесстрастность, расслабленность: 26%
Гнев: 6%
Радость, улыбка: 0,3%
Около трети солдат (30%) испытывают либо сильный, либо легкий страх. Еще треть (32%) находятся в промежуточном состоянии напряженности и сосредоточенности. Четверть (26%) сохраняют спокойствие и нейтральные эмоции. Можно предположить, что именно последняя группа будет проявлять наибольшие умения в бою, однако солдаты, сохраняющие спокойствие, могут с одинаковой вероятностью обнаружиться как среди тех, кто не стреляет, так и среди тех, кто ведет огонь из своего оружия.
Небольшая группа солдат (7%) ошеломлена или обездвижена – в основном это раненые и умирающие, а также пленные и люди, которых подвергают пыткам. Некоторые из тех, кого собираются казнить, демонстрируют страх, хотя эта эмоция более характерна для солдат, не получивших ранение. На одном из знаменитых снимков [Howe 2002: 26], где сайгонский полицейский расстреливает из пистолета захваченного вьетконговца, жертва демонстрирует смесь страха и шока, но самое сильное выражение ужаса запечатлено на лице другого полицейского, на чьих глазах разворачивается эта сцена. Лицо палача бесстрастно – обычная ситуация на фотоснимках людей, проводящих допрос.
Радость в момент боя почти отсутствует. Лишь на одной фотографии изображен улыбающийся боец минометного расчета, но нужно учитывать, что миномет – это оружие для дальнего боя, а не для непосредственного столкновения. В полной подборке фотографий присутствуют еще пятнадцать снимков улыбающихся солдат, однако все они сделаны вне боевых ситуаций. На большинстве таких фото запечатлены победоносные моменты – например, когда солдаты демонстрируют оружие, захваченное у противника, – или момент объявления мира. Наиболее часто улыбки встречаются на лицах летчиков-истребителей, радующихся возвращению на аэродром с победными результатами, которые позволяют им попасть в ранг асов; в некоторых случаях улыбающиеся летчики стоят перед своими самолетами [Толивер, Констебль 2013]. На одной из фотографий первый американский ас во Вьетнаме рассказывает о воздушном сражении в кругу улыбающихся товарищей, хотя на лице самого пилота, увлекшегося своей историей, запечатлено выражение гнева и агрессии [Daugherty, Mattson 2001: 508].
Пожалуй, самым удивительным является то, что в бою редко проявляется гнев. Подобные эмоции характерны только для 6% солдат на анализируемых снимках, причем в большинстве случаев гнев не выражается в виде броска на противника. Имеется пара фото, на которых пулеметчики ведут огонь с застывшим выражением гнева на лице. Однако чаще эту эмоцию проявляют пленные (в особенности на снимках войны во Вьетнаме) и жертвы пыток, если они не пребывают в оцепенении; иногда они демонстрируют гнев в сочетании со страхом. Раненые солдаты в основном находятся в оцепенении, порой демонстрируют легкий страх, а гнев больше проявляется на лицах направляющихся к ним товарищей и санитаров, в особенности когда раненые зовут на помощь – обычно в таких случаях гнев сочетается с огорчением или страхом. Что касается собственно мучителей, то они не выглядят охваченными гневом, хотя на нескольких фотографиях можно увидеть разгневанные выражения на лицах солдат, которые тащат захваченных врагов в свое расположение – здесь гнев сочетается с мускульными усилиями, направленными на преодоление сопротивления. Похоже, что гнев действительно возникает в основном в моменты напряженных усилий – это заметно по выражениям лиц офицеров, отдающих приказы в горячке сражения. Самое сильное выражение гнева запечатлено на лицах двух американских солдат конвойной службы, сцепившихся с паникующей толпой, которая пытается пробраться на самолет во время эвакуации после падения Сайгона в 1975 году; охранники напрягают мышцы, чтобы освободить дверь и дать самолету взлететь, один из них бьет кулаком человека в штатском [Daugherty, Mattson 2001: 556]. Но самое сильное выражение гнева на фото, представленных в работе Догерти и Мэттсона, где собрано 850 снимков войны во Вьетнаме, обнаруживается вообще не в зоне боевых действий, а у участника мирной демонстрации в США [Daugherty, Mattson 2001: 184].
Все это дает ключ к разгадке довольно непоследовательного соотношения между гневом и насилием. Грамотное применение оружия в большинстве случаев не сопровождается гневом. Эта эмоция действенна лишь в тех ситуациях, где требуется применение серьезной мускульной силы, да и то, скорее, для того чтобы добиться подчинения, а не с целью причинить реальный вред противнику. Гнев выходит наружу там, где нет или почти нет конфронтационного страха – в находящихся под контролем ситуациях, когда противник уже подчинен, или в совершенно символических конфронтациях, где отсутствует схватка, а вместо этого соперники демонстрируют свои позиции или выпускают пар29. Ирония заключается в том, что в мирной жизни гнева, вероятно, больше, чем в реальных сражениях.
Постановка вопроса о том, что именно является базовой наклонностью человека – страх, удовольствие от убийства или нечто иное, – представляет собой неверный путь к поиску объяснения. Лучше исходить из допущения, что все люди в основе своей одинаковы, а то, в каком месте рассмотренного выше континуума окажутся конкретные солдаты, предопределяется динамикой ситуации в течение совершенно конкретных промежутков времени. Те же самые солдаты, которые несколько минут назад неистово убивали беспомощных противников или ликовали от победы, могут делиться пайками со сдавшимися пленными [Holmes 1985: 370–371], а за час до этого они могли находиться в состоянии высокой напряженности, были неспособны стрелять и пребывали в полупараличе. Одним словом, нужно обращать внимание не на лиц, которые совершают насилие, а на ситуации, в которых это происходит, не на людей, испытывающих страх, а на позиции в конкретных ситуациях, в которых испытывается страх, – и так далее по всем направлениям.
Конфронтационная напряженность в насильственных столкновениях с участием полиции и вне военных действий
Те же самые разновидности паттернов, которые демонстрируют важность напряженности/страха во время военных действий, присутствуют практически во всех прочих видах насильственных столкновений. Основное исключение составляют случаи, когда насилие изолируется и ограничивается таким образом, что становится некой опознаваемой искусственной ситуацией – в качестве соответствующих примеров, к которым мы обратимся в главах 6, 7 и 8, можно упомянуть дуэли и насилие во время развлекательных мероприятий. В остальном же «серьезное» насилие в основе своей всегда одинаково. Это можно наблюдать на примере полицейского насилия по таким критериям, как относительно небольшая доля полицейских, которые применяют огнестрельное оружие или избивают подозреваемых; масштабы беспорядочной стрельбы, промахов мимо цели, жертв дружественного огня или среди посторонних лиц; случаи чрезмерной жестокости и наступательной паники.
То же самое относится и к разборкам уличных банд, где преобладающим видом насилия являются стрельба с колес и другие способы нападений в стиле «бей – беги», а также характерно насилие над противниками, находящимися в меньшинстве, в особенности над теми, кто застигнут в одиночку или очень небольшой группой на территории неприятеля. Напротив, когда банды сталкиваются друг с другом в полном составе, конфронтация оканчивается вничью, сопровождаясь жестикуляцией и сотрясанием воздуха.
Аналогичная картина характерна и для массовых беспорядков, в том числе на этнической почве. Как будет показано ниже, насилие в толпе почти всегда осуществляется небольшой группой лиц, которые находятся на переднем крае происходящего, – именно они бросают камни, дразнят противника, сжигают или громят его имущество. Поведение большинства людей во время беспорядков демонстрирует напряженность и страх, выражающиеся в огромной осторожности, а зачастую и в бегстве в безопасное место при появлении признаков контратаки с противоположной стороны. Для «элиты» бойцов из толпы – тех самых, которые находятся впереди, – в целом также характерны определенные проявления страха или по меньшей мере высокая степень напряженности. Общая наблюдаемая модель их поведения – выбегание вперед и отбегание назад – в точности напоминает племенные войны, заснятые на камеру. Бойцы из толпы, участвующие в беспорядках, тщательно выбирают цели, атакуя в тех местах, где противник имеет небольшую численность и находится в совершенном меньшинстве либо беспомощен и неспособен дать отпор. Там, где у их противника имеется серьезная поддержка либо где полиция или другие представители власти демонстрируют явную готовность применить силу, участники беспорядков почти всегда отступают – по меньшей мере в том месте, где складывается такая ситуация30. Возможна и обратная ситуация. На одном из снимков, сделанных в Багдаде в октябре 2004 года (опубликован AP/World Wide Photos), изображен американский солдат с оружием и в бронежилете, однако ему во избежание конфронтации приходится отступать от безоружной толпы иракцев, которая надвигается на него с враждебными жестами. В коллективной атмосфере таких конфронтационных ситуаций импульсы отступления и нападения взаимно переплетаются.
Структура драк один на один, как уже отмечалось, задается напряженностью и страхом. В большинстве поединков между относительно равными по силе соперниками много бахвальства и мало действий, а сами эти действия демонстрируют низкий уровень мастерства. Там, где насилие все же имеет место, оно происходит потому, что сильные нападают на слабых – сторона, имеющая значительное численное преимущество, атакует изолированных жертв, внушительно вооруженные люди нападают на безоружных, а более крупные и мускулистые избивают противников меньшей комплекции. Впрочем, в таких драках тоже часто проявляется отсутствие мастерства: их участники наносят неточные удары, в результате чего возникают специфические для мирной жизни версии дружественного огня и попадания по непреднамеренным целям. Такое случается и в поединках на кулаках и с применением прочего примитивного оружия.
В нашем распоряжении имеется немного систематических свидетельств неэффективности участников поединков между гражданскими лицами, сопоставимых с данными о доле солдат, которые не стреляют в бою, и точности попаданий в цель во время сражений. Ближе всего к этим свидетельствам оказываются разрозненные данные о полицейских перестрелках, которые напоминают паттерн войны. Информация о том, в каком количестве случаев стрельбы с колес стреляющие промахиваются либо попадают не в того человека, отсутствует. Уильям Сандерс указывает, что не всем участникам уличных банд по нраву охота на соперников, а из тех, кто в этот момент находится в машине, обычно стреляет только один, поэтому соотношение между теми, кто стреляет и не стреляет, при стрельбе с колес, вероятно, составляет один к четырем или меньше [Sanders 1994: 67, 75]. Поскольку смысл нападения из автомобиля заключается в том, чтобы предельно сократить время конфронтации, уровень непрерывности огня очень низок. Наиболее обширные данные по перестрелкам между бандами собрала Дианна Уилкинсон [Wilkinson 2003], чье исследование посвящено лицам, совершившим насильственные преступления в бедных районах Нью-Йорка, населенных афро- и латиноамериканцами. Им было предложено описать различные виды насильственных инцидентов, в которых они участвовали. Из 151 эпизода, в которых присутствовало оружие, стрельба из него велась в 71% случаев, а в 67% из этих последних случаев кто-то был ранен (рассчитано по данным из: [Wilkinson 2003: 128–130, 216]). В ситуациях, когда совершалось избиение, в 36% случаев это был посторонний человек, а не один из участников инцидента, что свидетельствует о высоком уровне дружественного огня31.
Сравнение насилия в гражданской и военной сферах проливает свет еще на один момент. Напряженность/страх является одним из объяснений того, почему лишь немногие солдаты в бою стреляют из своего оружия и демонстрируют относительное неумение попадать в неприятеля. Но могут быть задействованы и другие причины. Одна из них заключается в том, что в сражениях современного типа солдаты рассредоточены по полю боя и ищут укрытие, так что место, где происходит битва, выглядит пустым32; в связи с этим причиной того, что некоторые солдаты не ведут огонь или стреляют мимо, может быть отсутствие видимых целей. Однако эту версию отвергал еще Маршалл, доказывавший, что некоторые солдаты не стреляют и в ситуациях ближнего боя; схожие паттерны обнаруживаются и в истории, если обратиться к массовым стрелковым сражениям домодерной эпохи. Еще более важно то, что в условиях непрерывных боевых действий солдаты часто лишены сна и испытывают физическое истощение – от воздействия природных стихий, иногда от нехватки пищи, а порой от непрерывного шума обстрела и вызванного им эмоционального угнетения [Holmes 1985: 115–125; Grossman 1995: 6–73]. В таких условиях солдаты могут впасть в вялое, зомбированное состояние, из‑за которого они не стреляют или стреляют неточно. Но и гражданские лица в ситуациях, связанных с насилием, как правило, ведут себя аналогичным образом – имеются в виду низкая доля активного участия в подобных ситуациях и значительный объем безрезультатного насилия, – даже в том случае, когда их цели ясны и они не подвергаются продолжительному отсутствию сна, физическим нагрузкам или длительному истощению. Все это подразумевает, что напряженность/страх в ситуации насильственной конфронтации сами по себе определяют исполнение насильственного перформанса вне зависимости от специфических сложностей, возникающих в условиях войсковых сражений.
Несомненно, что среди гражданских лиц тоже присутствует определенная группа, располагающаяся в самой верхней части континуума действий в бою: одни из них не боятся насильственных конфронтаций, другим удается переводить напряженность в стремительное нападение, а кое-кто и наслаждается насилием – как неудачным, так и успешным. Некоторые «полицейские-ковбои» слишком уж часто участвуют в перестрелках или избиении подозреваемых, для некоторых охранников садизм – обычное дело, а некоторые дети ведут себя задиристо. Однако все эти люди находятся в меньшинстве, а для теории ситуационного действия еще более важно, что речь идет о меньшинстве ситуаций. Здесь, как и в случае с солдатами, сообщающими о своих ощущениях в бою, необходимо действовать с осторожностью, чтобы выяснить, в какой степени рассказываемое от первого лица представляет собой общие выражения эмоций по поводу поединков, имевших место на том или ином расстоянии от говорящего, и насколько эти разговоры являются сотрясанием воздуха, похвальбой или попыткой скрыть свое реальное поведение во время схватки. В черных гетто крупных городов поединки иногда воспринимаются как «время, когда показывают телешоу» [Anderson 1999], однако подобное ощущение может быть более характерно для зрителей хорошо инсценированных боев, нежели для их непосредственных участников. Тем не менее реальное насилие действительно возникает в меньшинстве случаев, и путь к пониманию этого момента лежит через осознание того, каким образом отдельные позиции в конкретных ситуациях позволяют некоторым лицам воспользоваться напряженностью/страхом и трансформировать их в насилие по отношению к другим.
Чего боятся люди?
Какого рода страх большинство людей испытывает в насильственных ситуациях? Самым очевидным ответом представляется такой: они боятся быть убитыми или ранеными. Солдаты, видя разорванных снарядами своих товарищей или противников, разлетевшуюся на куски человеческую плоть либо агонию раненых с глубокими кровавыми ранами или вывалившимися из тела органами, по понятным причинам страстно не хотят, чтобы это случилось и с ними. Это соответствует известной закономерности: большинство людей стараются держаться подальше от источников физической опасности – солдаты пятясь отходят от линии фронта, участники массовых беспорядков занимают безопасную дистанцию от переднего края событий, бандиты, отстрелявшись с колес, стремительно уезжают с места происшествия. Все это укладывается в еще одну закономерность: насильственные столкновения приобретают наиболее затяжную и длительную форму там, где в них используются защитные механизмы, благодаря которым участники получают лишь незначительный урон. Например, в спорте, как будет показано в главе 8, насилие наиболее распространено в тех его видах, где участники соревнований наиболее надежно защищены от травм. А той социальной группой, где насилие встречается чаще всего, являются дети, которые редко способны нанести травмы друг другу33.
Однако это объяснение наталкивается на несколько парадоксов. Один из них заключается в том, что в некоторых социальных обстоятельствах люди готовы не только подвергнуться суровой опасности, но и фактически охотно испытывают боль и травмы. Обряды инициации, обычно предполагающие определенную степень дискомфорта и унижения, иногда бывают очень болезненными. У племен североамериканских индейцев инициации совершеннолетия для воинов включали не только болезненные испытания, но и нанесение порезов на тело, а пленники, которые хорошо держались под пытками, удостаивались почестей и могли быть приняты в племя. В некоторых уличных бандах инициация предполагает поединок с более крупным соперником и получение серьезных побоев [Anderson 1999: 86–87]; ритуал японской организованной преступности – якудзы – включает членовредительство в виде отрезания пальца [Whiting 1999: 131–132]. У спортсменов, занимающихся контактными видами спорта, и у молодых мужчин в целом отличительными признаками гордости могут выступать шрамы, синяки под глазами и бинты. Разумеется, ожидать, что у насилия будет четкая конечная точка, можно лишь в ситуациях, где оно снабжено ограничителями, а физические травмы во многих подобных случаях не столь серьезны, как в полноценных поединках. Однако боль и травмы могут быть совершенно экстремальными и в ритуализированных ситуациях, например при ритуальном самоубийстве наподобие японского сэппуку.
Испытание болью и травмой может быть успешно ритуализировано, когда оно происходит в фокусе социального внимания, транслирующего сильное ощущение принадлежности к эксклюзивной группе. В таком случае это испытание превращается в негативный культ, используя определение Эмиля Дюркгейма [Дюркгейм 2018]: тот, кто добровольно переносит боль, которую большинство обычных людей избегают, оказывается в некой элитной группе. Однако ключевым моментом для этого ритуального статуса является перенесение страданий, а не причинение их другим. Например, значительная часть солдат в бою рискует испытать боль, получить увечье или погибнуть, хотя для многих из них нахождение в зоне боевых действий не предполагает почти ничего иного, кроме простого присутствия там, – для них оказывается легче смириться с ранениями и смертью, чем самим причинять их. Часто утверждается, что страх опозориться или подвести товарищей побеждает страх получить ранение в бою. Вместе с тем представляется, что данная разновидность социального страха более сильна в преодолении опасений быть раненым и убитым, чем в преодолении напряженности, которая мешает эффективным действиям в бою. Страх ранения и смерти, как правило, наиболее велик на начальном этапе – фактически перед самым первым боем [Shalit 1988]. Но как только мертвые или изуродованные тела становятся для солдат привычным зрелищем, они приобретают к ним определенную невосприимчивость – хотя, как мы уже видели, их эффективность в бою не слишком повышается, что указывает на сохранение такого более масштабного состояния, как напряженность.




