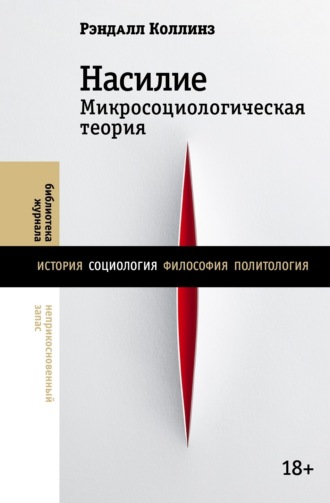
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Массовые изнасилования в Нанкине были чрезвычайно эмоциональным процессом, однако они не представляли собой неконтролируемое неистовство – точнее, неистовство никогда не бывает асоциальным состоянием, в котором забывается все, кроме внутренних устремлений того, кто им охвачен. Японские солдаты не превращались в берсерков, бросавшихся во все стороны, они не стреляли друг в друга и в целом соблюдали свою внутреннюю иерархию, хотя и не оказывали должного почтения тем старшим по званию командирам, которые не присоединялись к их оргии разрушения. В целом японцы соблюдали границы «международной зоны» – той части колониального Нанкина, где жили европейцы и где находили убежище некоторые китайцы. Японские солдаты несколько раз проникали на эту территорию в поисках женщин для изнасилования, но порой им давали отпор протестующие против таких действий штатские лица из европейцев. Особых успехов в усмирении японских солдат и спасении китайцев добился один находившийся в Нанкине официальный представитель Германии, носивший нацистские регалии13. Эти исключения демонстрируют, что у «моральных каникул» японских солдат имелись собственные имплицитные границы – они предавались неистовству разрушения, однако оно имело целенаправленный и четко очерченный характер. Данная закономерность тоже имеет общий характер. Наступательная паника и схожие образцы атмосферы атакующего неконтролируемого насилия напоминают сваливание в туннель – однако у этого туннеля имеется некое место в социальном пространстве, начало и конец во времени, а также стены, которые определяют его территорию в качестве пространства «моральных каникул»14.
Необходимое разъяснение: множественность причин чрезмерной жестокости
Не все зверства представляют собой результат наступательной паники. Если рассматривать последнюю как фактор № 1, то имеются еще три причины: 2) намеренные приказы высшего военного или политического руководства о массовом уничтожении людей (например, из соображений расовой/этнической, религиозной или идеологической неприязни либо для избавления от военнопленных), 3) проведение политики «выжженной земли», направленной на то, чтобы лишить противника ресурсов, либо хищническая эксплуатация территории армией, в ходе которой уничтожаются средства к существованию мирных жителей (как правило, в таких случаях также осуществляется то или иное прямое насилие в отношении гражданского населения, которое лишается пищи и крова), и 4) показательные казни или террористические меры возмездия в попытке задавить сопротивление.
В качестве примеров группы (2) можно привести массовые убийства в ходе европейских религиозных войн XVI и XVII веков [Cameron 1991: 372–385], убийства евреев, коммунистов и других жертв нацистской идеологии на восточном фронте во время Второй мировой войны [Bartov 1991; Fein 1979], массовые убийства представителей народа тутси и умеренных представителей народа хуту в Руанде в 1994 году [Human Rights Watch 1999]. К примерам группы (3) можно отнести значительную массу войн до Нового времени, а также войны, нацеленные на колониальную экспансию, британскую тактику борьбы с партизанами во время англо-бурской войны и все те же действия вермахта во время вторжения в Советский Союз [Keeley 1996; Манн 2022; Bartov 1991]. Примеры группы (4) – акции возмездия против партизан на территориях, захваченных нацистскими войсками, когда уничтожалось население целых деревень [Bartov 1991; Browning 1992; Бивор 2019]), а также практики обеих сторон Гражданской войны в Испании [Beevor 1999].
Признание этой множественности причинно-следственных траекторий означает, что не все зверства можно объяснить одинаково. Линия рассуждения в данном случае должна направляться от предшествующих условий и процессов к результату, а не наоборот – от результата – при допущении, что к нему ведет только один путь. В случае наступательной паники этот путь представляет собой стремительный эмоциональный поток в ходе дискретного локального эпизода, начинающийся с напряженности самого поединка, которая трансформируется во внезапный порыв неистового масштабного уничтожения в атмосфере истерической вовлеченности. Все это напоминает измененное состояние сознания, из которого лица, осуществляющие насилие, зачастую выходят в конце своих действий, словно возвращаясь к самим себе, побывав в чужой личности. Три другие траектории, напротив, имеют гораздо менее локальный и ситуационный характер, они в большей степени встроены в регулярные институты и макроиерархии. Данные разновидности чрезмерного насилия становятся результатом обдуманных решений, принимаемых заблаговременно и передаваемых по цепочкам командования или в рамках масштабных групп. Их эмоциональная составляющая является более ровной и бездушной; сознание людей, совершающих эти зверства, более насыщено обосновывающими их идеологиями или рационализациями, в нем в меньшей степени присутствует ощущение эпизодического разрыва с нормальным положением вещей, характерным для наступательной паники. Все перечисленные разновидности представляют собой идеальные типы, которые в отдельных случаях могут пересекаться. Например, во время Нанкинской резни инициирующим событием стал приказ японского командующего убивать китайских пленных из практических соображений – сложности с охраной слишком большого количества солдат противника. Это, в свою очередь, спровоцировало «моральные каникулы», эмоционально подпитываемые напряженностью, которую во время предшествующей военной кампании испытывали японские солдаты, теперь столкнувшиеся с тотальным крахом сопротивления противника. Неистовство разрушений вышло за рамки любой рациональной политики выжженной земли или показательного террора, поэтому лучше всего рассматривать Нанкинскую резню как необычайно длительную наступательную панику.
После поражения Японии во Второй мировой войне в ходе Токийского процесса по военным преступлениям бывший главнокомандующий японскими войсками в центральном Китае был признан виновным в Нанкинской резне вместе с премьер-министром страны, оба они были приговорены к смертной казни. Однако генерал, фактически отдавший приказ об убийстве всех заключенных, и штабной офицер, который его сформулировал, к ответственности не были привлечены [Chang 1997: 40, 172–176]. Что касается резни в Май Лай во Вьетнаме, то после того, как информация о ней получила огласку, генерал, командовавший дивизией, солдаты которой совершили это злодеяние, был понижен в звании и получил взыскание за то, что не расследовал его должным образом. Командир бригады, а также командир роты капитан Медина, лейтенант Колли и еще два десятка других офицеров и представителей младшего командного состава предстали перед судом, однако виновным был признан только Колли [Anderson 1998; Bilton, Sim 1992]. Типичная юридическая и политическая реакция на военные злодеяния, как правило, сконцентрирована на высших представителях военного командования или представителях государственной власти; предполагается, что ключевой причинный фактор располагается в цепочке командования – идет ли речь об отдаче прямых приказов, формировании атмосферы, стимулирующей насилие или попустительствующей ему, отсутствии надлежащего контроля или покрытии преступлений. Однако при этом упускается из виду эмоциональная динамика локальной ситуации, как будто лица, совершавшие насилие – а практически все они являются боевыми военнослужащими в низких званиях, – выступают попросту пассивными проводниками приказов сверху. Это не означает, что организационное пособничество описанного выше рода не может иметь место, однако оно не является достаточным объяснением происходящего. Катализатором Нанкинской резни послужил приказ японского генерала убить всех военнопленных, но при этом присутствовали и условия для наступательной паники. То же самое можно утверждать и о капитане Медине, под общим командованием которого находился взвод лейтенанта Колли, – именно Медина ночью перед резней в Сонгми выступил перед своими солдатами с зажигательной речью. Тем не менее резню устроил только один взвод (примерно 25–30 человек) из трех участвовавших в штурме – взвод, который первым вошел в деревню, пока остальные оставались в резерве или выполняли задачи по соседству. Принципиальным элементом была локальная эмоциональная цепная реакция – непременное условие совершения зверств15.
Точно так же обстоит дело и с объяснениями, в которых делается акцент на иных устойчивых качествах лиц, совершающих насилие. Например, Томас Шефф [Scheff 2006: 161–182] утверждает, что в резне в Сонгми главным объясняющим фактором был гипермаскулинный характер личности самого лейтенанта Келли – человека, который на протяжении учебы в школе и трудовой карьеры постоянно терпел неудачи, включая презрительное отношение к нему в армии со стороны вышестоящего командира. Если исходить из гипотезы Шеффа об оставленном без ответа позоре, превратившемся в ярость, то Келли был эмоционально холодным человеком без социальных связей, чья подавленная ярость нашла выход в виде убийственного срыва, когда Келли приказал солдатам убивать беззащитных мирных жителей, многих из которых он лишил жизни самостоятельно. Следует отметить, что в ходе предыдущих патрульных операций взвод Келли (как и многие другие американские подразделения) также совершал серьезное насилие по отношению к мирным жителям, но никогда не устраивал организованной резни. Но во время бойни в Сонгми локальная ситуация нарастания напряженности и внезапное разочарование, связанное с тем, что в деревне не оказалось солдат Вьетконга, выступили в качестве того временно́го сценария, который объединяет этот инцидент с большинством других подобных событий.
То же самое касается и объяснений военных зверств, в которых делается акцент на презрении к чужой культуре, предрассудках или расизме, направленных против недружественного населения. Подобные настроения широко распространены, а в условиях поляризации, возникающих во время военных действий, они интенсифицируются – однако массовые убийства совершаются лишь при особых сценариях. Такие авторы, как Айрис Чанг [Chang 1997] и Омер Бартов [Bartov 1991], связывают зверства в основном с идеологией тех, кто их совершает. Однако наступательная паника возникает в самых разных ситуациях, во многих из которых отсутствует какая-либо устойчивая идеология, а сама по себе идеология без ситуационных условий не провоцирует наступательной паники. При этом динамика наступательной паники может сочетаться с другими причинными механизмами, в рамках которых может происходить расширение масштабов зверств как по времени, так и по разнообразию совершаемого насилия16. Если исключить дополнительные условия, то наступательная паника может быть относительно короткой и иметь ограниченный характер: например, солдаты могут убивать врагов, но не калечить их; женщин могут насиловать, но не убивать после этого; подозреваемого в преступлении могут жестоко избить, но может обойтись и без этого. Данные различия могут показаться не слишком актуальными для публичной эмоциональной реакции на какое-либо конкретное зверство, которая и так достаточно негативна, однако имеют большое значение в части нанесенного ущерба.
Асимметричная вовлеченность при наступательной панике и жертвы, охваченные параличом
Детальный анализ Нанкинской резни позволяет глубже понять еще одну особенность механизма подобных массовых убийств. Численность китайских войск в ходе этого инцидента значительно превосходила японцев, но почему китайцы не дали отпор, как только стало ясно, что начинается бойня? Правда, китайцы в основном были безоружными, однако они могли оказать хотя бы какое-то сопротивление и по меньшей мере умирать в бою, а то и, быть может, взять верх над небольшими группами японцев. В действительности японские солдаты сами быстро прониклись презрением к китайцам за то, что те пассивно шли на смерть, и это отношение к противнику укрепляло ощущение расчеловечивания противника, что облегчало японцам совершение убийств.
Наступательная паника возникает в атмосфере тотального доминирования одной из сторон. Изначально ее появление связано с причинами военного характера: одна из сторон успешно идет вперед в атаку, тогда как другая рассыпается и оказывается неспособной к сопротивлению. Эмоциональный туннель – атмосфера, в которой происходит бойня, – открывается в результате осознания этой ситуации, которое является не столько рациональным и когнитивным, сколько эмоциональным и коллективным в максимально широком смысле. Этот эмоциональный настрой имеет интеракционный характер – его разделяют обе стороны. Доминирование оказывается не только физическим – в еще большей степени это эмоциональный феномен: сторона, одерживающая победу, ощущает воодушевление и заряженность энергией, а проигрывающая сторона – отчаяние, беспомощность, испуг и подавленность. Эти эмоции циркулируют и усиливают друг друга: в паре цепочек обратной связи в пределах каждого воинского подразделения победители «накручивают» друг друга до разрушительного бешенства, а проигравшие деморализуют друг друга; наконец, в третьей цепочке, соединяющей первые две, победители подпитываются деморализацией проигравших, а проигравшие подвергаются дальнейшим эмоциональным ударам со стороны тех, кто владеет инициативой. Так выглядит процесс асимметричного вовлечения: победитель включается в собственный ритм атаки – в том числе и потому, что его действия усиливаются за счет действий проигравших. В насильственных ситуациях с гораздо более низкой интенсивностью этот механизм можно обнаружить в процессах микровзаимодействий в моменты спортивных побед и поражений, а также в доминировании, присутствующем в искусных аспектах взаимодействия в повседневной жизни [Collins 2004: 121–125]. Презрительные выпады и жестокие шутки победителей подкрепляются подобострастным отчаянием и тупой пассивностью их жертв. Наступательная паника одной стороны подпитывается паническим параличом другой. Примерно так ребенок-живодер приходит все в большую ярость от того, как съеживается от страха кошка, которую он мучает.
Этот паралич побежденных масштабно задокументирован в источниках. Например, в битве при Гранике (334 год до н. э.) македонцы посреди всеобщего панического отступления персидской армии загнали в ловушку наемников-пехотинцев противника. Приведем отрывок из античного историка Арриана, который цитирует Джон Киган: «Они стояли на месте как вкопанные не потому, что были преисполнены серьезной решимости, а из‑за внезапно наступившей катастрофы». Далее Киган переходит к общему выводу: «Этот феномен вновь и вновь наблюдается на полях сражений: перед лицом неожиданного натиска хищного противника солдат охватывает паралич, как у кролика перед удавом. Спустя непродолжительное время персы были окружены и изрублены на том же самом месте» [Keegan 1987: 80–81]. Спустя более двух тысячелетий эта же схема (паттерн) проявилась в ситуации, когда в 1944 году югославские партизаны убивали безоружных пленных немцев: «Как и большинство пленников, немцы были как будто парализованы, не защищались и не пытались спастись бегством» [Keegan 1993: 54].
Некий элемент пассивности присутствует практически во всех разновидностях чрезмерного насилия. Например, часто задавался вопрос о том, почему евреи не сопротивлялись Холокосту, почему они хотя бы не приняли последний бой вместо того, чтобы позволить машинально вести себя в газовые камеры. Именно такую картину мы наблюдаем и в случае с побежденными китайцами в Нанкине, а если обратиться к более поздним событиям наподобие массовых беспорядков на этнической почве с человеческими жертвами в Индии и многих других местах, то вновь обнаружится, что жертвы почти полностью пассивны и охвачены эмоциональным параличом, который исключает возможность серьезного сопротивления. В этот момент жертвы не дают отпор – хотя они могли бы это сделать в какой-то предшествующий момент, в какой-то иной ситуации взаимодействия, – поскольку они оказались в ловушке коллективной эмоциональной атмосферы17. В командных видах спорта используется такая метафора: когда одна команда захватывает темп, другая его теряет. Именно так в общем виде и выглядит ситуация в случае зверств и насильственного доминирования – победитель навязывает темп проигравшему. В рассмотренных нами случаях конфликт представлен в куда более экстремальных формах, однако и здесь присутствует аналогичный механизм асимметричного вовлечения в общее эмоциональное определение ситуации. Но при совершении чрезмерного насилия это уже не атмосфера спортивной победы или поражения – перед нами оказываются ликующие убийцы, которые подпитываются безнадежной пассивностью тех, кого они убивают, и жертвы, охваченные беспомощным шоком и подавленностью от эмоционального доминирования тех, кто лишает их жизни. Такое поведение жертв кажется иррациональным и противоречащим любым их интересам. Тем не менее именно так выглядит типовая ситуация, характерная практически для всех масштабных зверств. Используемая в социальных науках формулировка «обвинение жертвы» (blaming the victim) не помогает понять происходящее. Дело не просто в том, что жертва, действуя рационально, могла бы вести себя иначе и тем самым значительно усложнить задачу нападавшему. Природа конфликта не подразумевает принятие независимых рациональных решений, представляющих собой вербальные последовательности, которые отчетливо формулируются в рассудке жертв. Такие решения люди могут принимать до того, как начинается актуальный контакт, но как только они попадают в тиски конфронтации, они оказываются захваченными общим эмоциональным полем. Заражение эмоциями происходит не только среди людей, находящихся на одной стороне конфликта, но и между двумя противостоящими друг другу сторонами. Именно форма этого эмоционального заражения в первую очередь определяет, будет ли одна из сторон бороться и насколько интенсивно, закончится ли противостояние вничью и кто в нем победит. В крайних случаях это эмоциональное поле превращается в ментальное и физическое доминирование одной из сторон, которое и порождает зверства. Горячий порыв и чрезмерная жестокость победителей выступают составляющими частями той же самой атмосферы взаимодействия, что и ошеломленная пассивность жертв – победитель и жертва неотъемлемы друг от друга. Все это невозможно объяснить индивидуальными характеристиками людей как таковых – здесь требуется отдельная теория насильственного взаимодействия.
Однако на этом этапе мы все еще собираем свидетельства, подтверждающие наличие некой общей модели. Более глубокое объяснение появится в последующих главах, по мере погружения в механизмы микровзаимодействий.
Наступательная паника и дисбаланс потерь в пользу одной из сторон в решающих сражениях
Подобные зверства с нарастающей в течение длительного времени динамикой поистине ужасают. Однако тот или иной масштаб кровавых бесчинств довольно часто случается в ходе военных действий, поскольку решающие военные победы, как правило, достигались в те моменты, когда складывались условия, в конечном итоге приводившие к наступательной панике.
Хорошим примером такого рода выступает битва при Азенкуре, состоявшаяся в 1415 году, когда английская армия численностью 6–7 тысяч человек (ее основу составляли лучники) разгромила французское войско численностью около 25 тысяч человек, состоявшее преимущественно из тяжеловооруженных рыцарей, одна часть которых вступила в бой верхом, а другая спешилась. С французской стороны погибло около шести тысяч человек, а у англичан потери составили несколько сотен раненых и небольшое количество убитых [Keegan 1976: 82–114]. Как это стало возможным? Каким образом меньшая по размеру армия смогла победить численно превосходящего противника и отделаться потерями, которые в соотносительных показателях были гораздо меньше? Секрет численности армий в эпоху, когда сражения были контактными, заключался в том, что большое количество солдат имело значение лишь в том случае, если их действительно можно было подвести вплотную к противнику, чтобы нанести ему удар. Англичане выбрали позицию на лугу шириной в несколько сотен ярдов, расположенном между двумя лесами. Когда французы, располагая гораздо более крупными силами, пошли в атаку на эту воронку, их передовая линия по численности была, возможно, примерно такой же, как и передовая линия англичан, хотя позади толпилась гораздо более многочисленная группа. Во время первой французской атаки закованные в броню конные рыцари почти прорвали передовую английскую линию – остановить наступление удалось лишь благодаря тому, что лошади французов натолкнулись на ряд заостренных кольев, которые англичане вбили в землю для защиты своих позиций. Как указывает Киган,
это нападение на мгновение устрашило англичан. Но тяжело вооруженные французские всадники, которые были вдвое выше англичан от земли и перемещались со скоростью 10–15 миль в час на боевых лошадях со стальными подковами и гротескными попонами, остановились всего в нескольких футах от противника. А когда они ускакали, английские лучники со всем своим яростным гневом, пришедшим вместе с избавлением от внезапной опасности, натянули свои луки и стали метко стрелять вслед французам – многие их лошади были поражены стрелами, а другие обезумели во время беспорядочного бегства [Keegan 1976: 96].
Лошади были не настолько хорошо покрыты броней, как французские всадники, почти полностью защищенные стальными доспехами, были более уязвимы для английских стрел, а также больше подвержены панике. Как отмечает Киган [Keegan 1976: 93], звук стрел, лязгающих по доспехам, должно быть, создавал жуткую какофонию, которая оказывала в основном психологическое, а не физическое воздействие; эту напряженную атмосферу усиливали вопли раненых лошадей. Когда французские конники на мгновение отпрянули, они врезались в надвигавшихся сзади собственных товарищей, создав огромный затор. Солдаты в тяжелых доспехах валились на землю и не могли подняться под грузом брони весом 60–70 фунтов [27–32 килограмма], а также из‑за того, что спотыкающиеся воины падали друг на друга. Раненые лошади метались по полю боя, топча солдат и усугубляя давку.
В этот момент англичане бросились вперед. Именно так буквально выглядит наступательная паника, ведь всего несколькими минутами ранее английские лучники прятались за заостренными кольями, когда на них надвигалась французская кавалерия. Сначала англичане испытали ужас от внушительных французских рыцарей, наступавших в яростном порыве, но уже в следующий момент увидели, что их противники беспомощно запутались и лежат на земле. Тогда лучники ринулись вперед, чтобы застигнуть французов, пока те не могут подняться, и стали пронзать их кинжалами сквозь щели в доспехах, рубить и забивать до смерти топорами и киянками, которые использовались для вбивания тех самых кольев. Резервные шеренги французских войск, которые подошли, чтобы присоединиться к потасовке, втянулись в эту свалку, и те, кто смог из нее выбраться, отступили на безопасное расстояние, где обескураженно простояли несколько часов, не возобновляя сражения.
Когда мы начинаем анализировать разницу в потерях победителей и побежденных в решающих сражениях, возникает желание связать эти цифры с преувеличениями пропагандистского характера. Однако этот паттерн имеет вполне всеобщий характер и признается реалистичными современными историками, которые прилагают огромные усилия для оценки численности армий, исходя из их логистических нужд. Неравномерность потерь объясняется сочетанием двух закономерностей. Во-первых, в большинстве сражений потери относительно невелики – вследствие того обстоятельства, что солдаты находятся в состоянии сильной напряженности/страха, из‑за чего они не могут нанести большой урон противнику. В эпоху до появления полевой артиллерии в типичных сражениях, в которых одна из сторон не совершала решающий прорыв, потери обычно составляли около 5% бойцов18. Во-вторых, подавляющее большинство потерь в решающих сражениях происходило на заключительном этапе, когда одна из армий рассыпалась и беспорядочно отступала, а другая набрасывалась на нее – в итоге проигравшие оказывались беспомощными жертвами наступательной паники. Например, в битве при Азенкуре соотношение потерь французов и англичан составило более, чем 20:1, причем французы понесли практически все свои потери в давке или столпотворении. Примечательно и то, что даже тогда уцелевшие французы по-прежнему значительно превосходили англичан в численности, но были деморализованы и не смогли предпринять контратаку. Этот пример демонстрирует, что атмосфера победы и поражения в битве – это не просто вопрос количества войск, а субъективное восприятие, основанное на эмоциях. Если обычный уровень потерь составлял порядка 5%, то потерять за короткий промежуток времени шесть тысяч человек из 25 тысяч бойцов, то есть примерно 25% армии, было чудовищным потрясением. Такие потери переживаются как катастрофа, которая повергает в оцепенение – так или иначе буквально парализует – тех, кто остался в живых.




