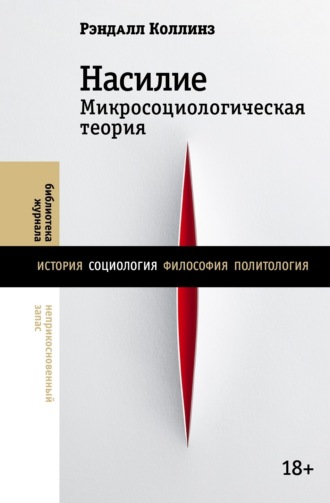
Полная версия
Насилие. Микросоциологическая теория
Эта проблема сохраняется и в совершенно иных боевых порядках современных войн, когда войска рассредоточены вдоль линии огня. Множество подобных примеров приводит Ричард Холмс [Holmes 1985: 189–192]: во время Первой мировой войны артиллерия стреляла по собственным войскам (только у французов от этого погибли 75 тысяч человек), во Второй мировой войне бомбардировщики сбрасывали бомбы на свои же позиции, а также имелись случаи, когда солдаты атаковали позиции союзных войск из‑за того, что не могли их распознать. Во французской, прусской, британской и других армиях часовые и караульные, стрелявшие в людей, казавшихся им незнакомыми, убили многих собственных командиров. В 1863 году в конце победоносного для американских конфедератов сражения при Чанселорсвилле генерал Стоунволл Джексон был застрелен своими же часовыми, которые его не узнали, – и это лишь один из множества подобных эпизодов. По оценке Джона Кигана [Keegan 1976: 311–313], 15–25% боевых потерь являются случайными. В эпоху механизированных войн они все чаще происходят в результате несчастных случаев с транспортом или тяжелой техникой: солдата может переехать танк или грузовик, раздавить артиллерийское орудие или какая-то другая крупногабаритная техника при ее перемещении. На театрах военных действий с тяжелыми условиями передвижения, например на британском фронте в Бирме в 1942–1943 годах, количество небоевых повреждений превышало количество ранений в бою в соотношении 5:1 [Holmes 1985: 191]. Попытки снабжения войск по воздуху приводили к гибели людей, например когда на головы солдатам падали деревянные ящики с продовольствием. То ли ирония, то ли закономерность была в том, что американский генерал Джордж Паттон, прославившийся быстрыми танковыми маневрами во время Второй мировой, погиб в автокатастрофе вскоре после окончания войны. Военная авиация испытывает гораздо больше проблем на своем пути, чем гражданская: во время Корейской войны в дополнение к потерям от огня неприятеля еще 20% американских самолетов были утрачены в результате аварий [Gurney 1958: 273]. Переход к использованию такой высокомобильной техники, как вертолеты, также повлек за собой соответствующие потери. В ходе войны в Афганистане в 2001–2002 годах значительная часть вертолетов была потеряна в результате аварий. Во время войны в Ираке с марта 2003 года по август 2005 года 19% погибших американских военнослужащих стали жертвой несчастных случаев (см.: Philadelphia Inquirer, 11 августа 2005 года; данные с сайта iCasualties.org). Напряженность инфицирует не только солдат, которые могут использовать свое оружие во вред окружающим, но и ту более масштабную организационную среду, для которой война заключается в перемещении больших и опасных физических объектов, что часто приводит к столкновениям с людьми, находящимися в напряженной ситуации19.
До этого момента основным материалом для анализа выступали военные действия, однако в целом описанные закономерности применимы ко всем насильственным конфликтам. Своя разновидность дружественного огня и смежное с ним явление, которое можно назвать поражением случайных целей (военные в данном случае используют термин «сопутствующий ущерб»), широко распространены и в мелких конфликтах гражданских лиц.
Одной из основных разновидностей поединков между уличными бандами (по меньшей мере на западном побережье США) является стрельба с колес, когда участники одной группировки стреляют по скоплению своих противников, проезжая мимо на автомобиле [Sanders 1994]. Такие инциденты часто случаются на свадьбах, вечеринках или во время других праздничных сборищ, так как бандиты знают, что именно на этих мероприятиях могут обнаружиться люди, выбранные ими в качестве мишеней. Обычно по скоплению людей производится всего один выстрел, после чего машина быстро уезжает. Поскольку перед нами не просто расстрел, а вендетта, ее надлежащей жертвой может стать любой, кто находится в этой группе – как мужчины, так и женщины. Как правило, сами участники банд при такой стрельбе остаются невредимыми – чего не скажешь об их друзьях и родственниках. При этом от стрельбы с колес может пострадать совершенно посторонний человек, в том числе дети или другие совершенно беспомощные жертвы.
То обстоятельство, что значительную долю жертв бандитских вендетт явно составляют посторонние лица, тогда как активные участники противоборствующей банды терпят относительно небольшой урон, выглядит противоестественной несправедливостью. Однако эта ситуация укладывается в хорошо известную закономерность в другой сфере: во время катастрофических бедствий чаще всего гибнут дети и старики, а наибольшие шансы выжить имеют дееспособные молодые мужчины [Bourque et al. 2006]. Ситуация схватки напоминает сцену катастрофы в том, что самые ловкие и бдительные, скорее всего, смогут избежать опасностей, а самые беспомощные, напротив, окажутся жертвами – в случае бандитских перестрелок они будут оставаться в растерянном или неподвижном состоянии на линии огня.
То же самое относится и к дракам между небольшими группами и один на один – как с оружием, так и без него. В чрезвычайно напряженной ситуации драки участники отдельной группы, скорее всего, станут беспорядочно размахивать руками, с большой вероятностью попадая в своих товарищей, в особенности если они скучились рядом друг с другом.
Отрывок из студенческого отчета: Группа из 15 подростков вошла в раздевалку средней школы, чтобы устроить очную ставку одному парню, который что-то не поделил с двумя из них. Наблюдатель отметил напряженность со всех сторон: парень, избранный жертвой, потел, дрожал и пытался спрятаться; нападавшие испытывали телесное напряжение, тяжело дышали и постоянно подбадривали друг друга, как бы набираясь смелости. Увидев, что их жертва испугана, они бросились на этого парня, стали бить его кулаками, сбили с ног и пинали, пока он лежал на земле. Поскольку избиение происходило в тесном помещении раздевалки, несколько ударов нападавшие нанесли друг другу: у одного был сломан палец, когда он споткнулся и на него наступили, у другого был синяк на руке. Посторонние, собравшиеся понаблюдать за дракой, оказались не в состоянии соблюсти безопасную дистанцию, и один из них случайно получил удар по лицу. Итак, общее количество пострадавших: жертва, двое нападавших (оба от «дружественного огня») и одно постороннее лицо.
Еще один фрагмент из студенческих отчетов: Группа из 17 участников подростковой банды отправилась на четырех машинах на поиск дома одного из членов противоборствующей группировки. С самого начала возникла суматоха: долго обсуждали, кто в какой машине поедет, потом по дороге много раз поворачивали не туда. По прибытии на место начались новые колебания – на сей раз по поводу того, что делать дальше; в дверь никто не стучал. Через десять минут вышел старший брат жертвы, мужчина 28 лет, и сказал, что нужного им человека нет дома. После полуминутного спора, который велся через окно машины, из нее выскочил самый агрессивный участник банды и начал потасовку. Как только брат жертвы был сбит с ног, остальные участники банды тоже выбрались из машин, бросились к нему и стали топтать его на земле. К этому моменту на месте оставалось 14 участников банды, поскольку трое с началом перепалки запрыгнули в две машины и уехали, так что у их товарищей осталось только два автомобиля. Но большинство нападавших были слишком заняты, чтобы заметить это, поскольку столпились вокруг лежащего на земле человека, чтобы поучаствовать в его избиении, и в этом замесе по меньшей мере двое участников банды нанесли друг другу удары кулаками. Примерно через две минуты из дома вышли двое мужчин и две женщины – старшие родственники 28-летнего мужчины – и стали бросать по машинам бутылки и камни. Это сопротивление с неожиданной стороны вызвало у нападавших панику, и они попытались отступить к двум оставшимся машинам. Такое развитие событий, похоже, воодушевило вышедших из дома людей: несмотря на выражение страха на их лицах, они продолжили швырять бутылки в отступающих, которые, переваливаясь друг через друга, пытались забраться в машины. Одному из водителей пришлось выйти из машины и пересесть на другое место, так как он не мог быть за рулем, поскольку получил сильные ушибы рук, пока наносил жертве многочисленные удары. Из-за этого беспорядочного отступления машина, в которой находились восемь участников банды, застряла на три минуты, а родственники жертвы тем временем закидывали ее разными предметами с безопасной дистанции, разбив все стекла с одной стороны. В конце концов нападавшим удалось скрыться. Наблюдатель отметил, что после того, как участники банды благополучно вернулись восвояси, они сообщили о случившемся так, что все дискредитирующие подробности их действий остались за кадром, а вместо этого они хвалебно рассказывали, как победили в схватке.
Кулачные драки, как правило, сопровождаются беспорядочным маханием руками, в результате чего часто страдают посторонние люди, если они не получают внятных предупреждающих сигналов о необходимости быстро отойти на безопасное расстояние. В местах большого скопления людей это не всегда возможно. Какие-либо систематизированные данные, которые позволили бы утверждать, как часто во время тех или иных видов насильственных столкновений страдают посторонние, отсутствуют. Но если судить по всем тем источникам, из которых я собирал описания различных поединков, то похоже, что такие случаи имеют место в значительном большинстве столкновений. Исключение составляет та группа поединков, когда бой планируется и организуется как зрелище – к рассмотрению этих «честных боев» мы обратимся в главе 6. Иными словами, если только при организации поединков не будут специально установлены определенные ограничения – с явным, имеющим высокий приоритет вниманием к тому, чтобы избежать дружественного огня, – то всепроникающая неумелость, порождаемая напряженностью конфликта, обуславливает определенную существенную вероятность нанесения ущерба посторонним лицам.
Насильственные действия полиции в этом аспекте напоминают другие разновидности насилия, как, впрочем, и в большинстве иных составляющих. Жертвы от дружественного огня часто случаются во время перестрелок полицейских с подозреваемыми в совершении преступлений. Один из таких инцидентов произошел в ходе преследования человека, объявленного в розыск за убийство, которого выследили в номере мотеля (эта информация была предоставлена автору начальником полиции одного из штатов). Десять полицейских окружили дверь комнаты неровным полукругом, а когда оттуда вышел подозреваемый, размахивая пультом от телевизора, как будто в руках у него было оружие, он был застрелен правоохранителями. По всей видимости, этот человек предпочел гибель задержанию – для таких случаев используется разговорная формулировка «самоубийство руками копа». Так или иначе, в описываемом эпизоде все пули были выпущены полицейскими, но в данном случае важный момент заключается в том, что один из десяти полицейских получил ранение от рук своих товарищей. Как показала баллистическая экспертиза, многие пули беспорядочно угодили в стены и потолок, и лишь восемь выстрелов из 28 попали в подозреваемого.
В 1998 году при исполнении служебных обязанностей погибли 60 из 760 тысяч американских полицейских, при этом 10% из них стали жертвами собственного оружия, то есть дружественного огня. В 2001 году, если не учитывать 71 полицейского, погибшего во Всемирном торговом центре во время теракта 11 сентября, 70 полицейских были убиты при исполнении (в основном из огнестрельного оружия), плюс еще 78 погибли в результате несчастных случаев (в основном в автокатастрофах); восемь из погибших при исполнении были убиты из собственного оружия или случайно застрелены – доля жертв дружественного огня составила 11% (см.: Los Angeles Times, 26 июля 1999 года; отчет ФБР от 3 декабря 2002 года).
От действий полиции страдают и посторонние лица, причем паттерн в данном случае не слишком отличается от перестрелок между бандами, в особенности когда стрельба ведется в сложных условиях из автомобилей на скорости.
Случайные прохожие могут становиться жертвами и в тот момент, когда полицейские ведут преследование на автомобиле [Alpert, Dunham 1990], дальнейшее рассмотрение этой темы будет предпринято в главе 3. Социологический смысл в данном случае заключается не в том, чтобы возложить на кого-то вину, а в указании на определенный паттерн: конфликтные ситуации, в которых используются транспортные средства, во многом напоминают ситуации в сражениях, когда приоритетным становится перемещение военной техники по полю боя в условиях высокой напряженности, чтобы стремительно превзойти противника в маневренности.
Здесь, как и в других случаях, серьезные искажения в реальную картину вносит изображение насилия в развлекательных жанрах. Сцены автомобильных погонь являются одним из основных компонентов приключенческих боевиков. Как правило, в таких фильмах изображается много случайных повреждений различных объектов, а кульминацией оказывается эффектная авария, обычно представленная в легковесном или юмористическом ключе. Телесные повреждения или гибель участников погонь в кино показывают редко, максимум – машина злодея исчезает в пламени. Ущерб, который несут посторонние лица, не изображается никогда.
Попадание в случайных людей является характерной чертой военных действий всякий раз, когда поблизости присутствуют гражданские лица. С особенно высокой вероятностью это происходит в городских боях, когда гражданское население не смогло покинуть город, – такие ситуации возникали при осадах и традиционными, и современными методами. Кроме того, жертвы среди посторонних лиц свойственны партизанской войне, когда боевики намеренно прячутся среди мирного населения. Ведение любых боевых действий в густонаселенной местности неизбежно приводит к потерям среди нонкомбатантов, какие бы меры ни принимались, чтобы их избежать, за исключением полного прекращения огня.
Гипотетически урон для посторонних лиц можно снизить при помощи технологических усовершенствований. По состоянию на начало XXI века к соответствующим методам относятся компьютерный контроль над ведением огня, дистанционное радиолокационное и спутниковое зондирование, высокоточные системы наведения бомб и ракет, а также усовершенствованные прицелы и сенсорные системы для сухопутных вооружений и стрелкового оружия. Тем не менее опыт войн начала XXI века демонстрирует, что такие проблемы, как поражение посторонних лиц и дружественный огонь, никуда не делись20. Эти закономерности позволяют предположить, что корень проблемы заключается не в технологиях, а в неразберихе или напряженности самого сражения. Каким бы технически надежным ни было оружие, оно всегда контролируется людьми, которые выбирают цели или по меньшей мере задают критерии для стрельбы по ним, – сколь бы автоматически ни происходила реализация этих задач. А если учесть, что сражение состоит из таких элементов, как оборонительное уклонение от встречи с противником, обманные действия и маневрирование, то точный выбор цели по умолчанию оказывается сложной задачей. Поэтому нет ничего невероятного в том, что празднование свадьбы в Афганистане принимается за скопление боевиков «Аль-Каиды» [организация, запрещенная в РФ] (в особенности если аппаратура обнаружения находится в открытом космосе), а больница рассматривается в качестве прикрытия склада с оружием. Опустошительная огневая мощь побуждает противника прятаться где придется, включая гражданские объекты или поблизости от них; зная об этом, нападающие, которые располагают высокотехнологичным оружием дистанционного действия, имеют основания для расширенной, а не узкой интерпретации своих целей. Сражения порождают атмосферу, в которой цели выбираются в тумане войны. В череде технологических усовершенствований, которые идут уже на протяжении многих поколений, не обнаруживается ничего, что позволило бы допустить, что перечисленные факторы утратят свою значимость.
По мере снижении боевых потерь потери от дружественного огня, напротив, возрастают. Во время войны в Афганистане в 2001–2002 годах доля потерь от дружественного огня и несчастных случаев составила 63%21. В войнах, где одна из сторон обладает технологическим превосходством, потери, которые несет от противника армия с высокотехнологичным оснащением, как правило, невелики, поскольку обычно она ведет огонь с приличного расстояния, обладает высокой мобильностью и может легко эвакуировать людей – как следствие, количество погибших, по всей вероятности, будет незначительным, поскольку в таких условиях медикам гораздо легче прийти на помощь раненным в бою. Более существенная доля погибших приходится на дружественный огонь, а в особенности на смежные случаи, когда причиной потерь являются транспортные аварии, в которых виноваты сами пострадавшие. Так происходит, во-первых, потому, что доля потерь от рук противника снижается, а во-вторых, из‑за того, что армия более существенно зависит от высокотехнологичных средств передвижения, прежде всего боевых вертолетов и другой по определению опасной техники. Возрастающая мощь боеприпасов также представляет опасность для всех, кто находится поблизости, в особенности для военнослужащих, которые занимаются их транспортировкой и хранением. Во время войны в Ираке в 2003–2005 годах значительную часть смертей от несчастных случаев повлекли происшествия, связанные с боеприпасами.
Новостные СМИ открыли для себя феномен дружественного огня именно в ситуации, когда боевые потери в ходе американских военных операций 1990‑х годов снижались. Когда на протяжении многих недель боевых действий потери в отдельно взятых эпизодах составляют одного или несколько человек, такие события, как один сбитый летчик или убийство одного оперативника ЦРУ при допросе пленных, привлекают большое внимание СМИ – все это было бы невозможно в ходе предыдущих войн, когда потери были настолько обычным явлением, что большинство погибших с неизбежностью нельзя было назвать поименно. В условиях подобного внимания общественности несчастные случаи, связанные с дружественным огнем, становятся предметом чрезвычайно пристального рассмотрения, хотя во время Второй мировой войны они бы попросту не были заметны на фоне массовых потерь. Однако от расследования инцидентов с дружественным огнем и назначения виновных их вряд ли станет меньше, поскольку они структурно встроены в ситуации насильственных конфликтов. Подобно политическим скандалам, неоднозначные ситуации такого рода воспроизводятся, так что расследования, бурная реакция общественности и наказания не приводят к их исчезновению22.
Дружественный огонь и попадание по непреднамеренным целям являются порождением базовой особенности боевых ситуаций – напряженности/страха и проистекающих из них неумелых действий. Это своего рода случай, когда поспешишь – людей насмешишь (haste makes waste), учитывая то, что преимущество в бою получает тот, кто действует расторопно (hasty) в тот самый момент, когда происходит насилие. Феномен, который иногда называют туманом сражения, можно также охарактеризовать как психологическое состояние туннельного зрения23. Борьба полностью поглощает внимание тех, кто в ней участвует, перегружает сенсорный аппарат и фокусирует сознание таким образом, что все остальное теряется из виду. Однако поддерживать эффективную концентрацию на противнике достаточно сложно, поэтому на какое-то время неизбежно приходится забыть о том, что в зоне поединка может находиться кто-то еще. Именно так ведут себя разгневанные люди, которые обмениваются ругательствами и жестами, не обращая внимания на оцепеневших посторонних свидетелей. Точно так же полицейские рассчитывают, что вой их сирен, использование громкоговорителей, быстрая езда и другие действия, сигнализирующие о том, что произошло преступление, окажутся важнее всех прочих обычных человеческих дел24. Аналогичным образом солдаты пускают в ход все имеющиеся в их распоряжении на поле боя средства как для захвата домов, так и для того, чтобы их взорвать.
Эта эгоцентричность ситуаций, в которых происходят насильственные столкновения, относится даже к боевой элите – к ней мы относим как верхнюю группу из исследований Маршалла, где оказываются все, кто вообще ведет огонь, так и еще меньшую группу стреляющих точно. В одном из знаменитых подобных случаев – во время инцидента в Руби-Ридж в 1992 году – полицейский снайпер попал из винтовки с оптическим прицелом не в мужчину, за которым велась слежка в его коттедже в горах, а в его жену, которая подошла к окну с ребенком на руках [Whitcomb 2001: 241–311; Kopel, Blackman 1997: 32–38]. Здесь перед нами ситуация, когда жертвой становится постороннее лицо, но говорить об отсутствии исполнительского мастерства не приходится, ведь снайперы, в отличие от всех остальных, умеют исключительно точно стрелять по человеческим мишеням. В данном случае соотношение между количеством выстрелов и пораженных целей составляло один к одному. Однако снайпер попросту неправильно идентифицировал цель, появившуюся в окне, где, как он рассчитывал, должен был находиться нужный ему человек25. Схватка ограничивает внимание, и в этом туннеле конфронтационной напряженности зачастую причиняется ущерб такого рода, что он лишь условно связан с сознательным замыслом за пределами этого туннеля.
Удовольствие от битвы: в каких условиях это происходит?
Бой формируется напряженностью и страхом, однако определенная часть людей в некоторых ситуациях получает от него удовольствие. Как объяснить наличие этого меньшинства? А еще лучше сформулировать вопрос так: что нового мы узнаем об изменчивых процессах, порождающих насильственные действия, разобравшись в этом их аспекте?
Крайняя позиция, которой придерживаются некоторые авторы, заключается в том, что мужчинам, как правило, нравится драться. В данном случае выдвигается отчетливо гендерный тезис: мужчины – в силу то ли мачистской культуры, то ли генетики – являются бойцами и убийцами, получая от этих действий удовольствие. Самая крайняя интерпретация заключается в том, что убийство представляет собой кураж, приносящий сексуальное удовлетворение [Bourke 1999]26.
Для доказательства этого тезиса необходимо различать разные типы ситуаций, в которых мужчины (а в некоторых случаях и женщины) демонстрируют радость от участия в сражении. Одна из таких разновидностей – приподнятое настроение перед боем. Джоанна Бурк приводит высказывание одного британского капеллана времен Первой мировой войны, который утверждал, что и сам он, и его солдаты испытывали «странный и вызывающий ужас восторг от того, что наконец-то они оказались в „по-настоящему“ отчаянном положении» [Bourke 1999: 274]. В данном случае речь идет об ощущениях людей перед своим первым сражением, и здесь перед нами все еще словесная стадия. Улисс С. Грант [Grant 1990: 178] аналогичным образом описывает состояние своего первого подразделения, которым он командовал во время Гражданской войны в ноябре 1861 года: солдаты настолько рвались в бой, что генерал чувствовал, что не сможет поддерживать дисциплину, если ему не удастся ввязаться в сражение.
К этому же типу ситуаций относится и кровожадная риторика, звучащая на расстоянии от линии фронта. Учитывая масштабы логистики и вспомогательных подразделений армий XХ и XXI столетий, значительная часть солдат фактически не имеет возможности стрелять в противника и находится в зоне относительно небольшого риска обстрелов с его стороны. Однако военнослужащие соответствующих соединений зачастую носят оружие и обучены его применению, поэтому могут с определенной долей правдоподобия называть себя боевыми солдатами27. Находящиеся на тыловых территориях солдаты демонстрируют больше ненависти к противнику и более свирепое отношение к нему, чем фронтовики [Stouffer et al. 1949: 158–165]. Если солдаты, участвующие в боях, чаще всего проявляют хорошее отношение к пленным – после того как опасность миновала и когда солдаты противника действительно оказались в плену, с ними часто делятся пищей и водой, – то тыловые военнослужащие, как правило, относятся к пленным более бездушно или даже жестоко [Holmes 1985: 368–378, 382]. Среди гражданских лиц в тылу эта тенденция выражена еще сильнее: они еще более склонны выражать яростную риторику ненависти к врагу и кровожадную радость от убийств неприятеля [Bourke 1999: 144–153]. Но если учесть относительно высокую долю женщин среди граждан, находящихся в тылу, то есть основания усомниться в том, что разный уровень свирепости обусловлен собственно гендерными, а не ситуационными различиями.
Чем дальше от линии фронта, тем больше звучит свирепая риторика и выражается риторического энтузиазма в отношении всего военного предприятия. Это соответствует общей картине любых поединков, окруженных бахвальством и жестикуляцией вплоть до само́й реальной ситуации боя, когда происходит радикальный эмоциональный сдвиг и на первый план выходят напряженность/страх (см. соответствующие свидетельства Ричарда Холмса [Holmes 1985: 75–78], цитирующего множество наблюдателей). Но с каждым шагом в сторону тыла доля пустых слов увеличивается, война последовательно предстает в более идеализированном облике, враг постепенно дегуманизируется, отношение к убийствам становится все более бездушным, а все происходящее, скорее, напоминает ликование спортивных болельщиков.




