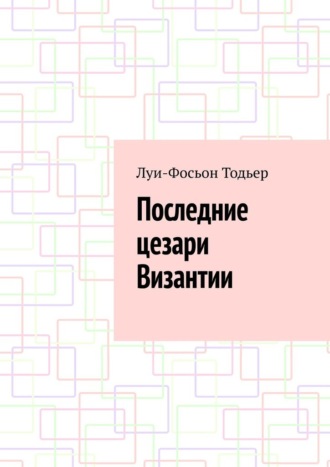
Полная версия
Последние цезари Византии
В то время как император, совершая акты самого низкого подчинения, получал прощение от Амурата, Андроник, старший из его четырех сыновей, разгневанный тем, что отец лишил его управления делами империи, передав их Мануилу, искал способа отомстить. Он нашел в Савджи, сыне Амурата, который тогда временно командовал всеми османскими силами в Европе, схожесть чувств и характера, что быстро установило между ними тесную дружбу. Охваченные жгучим честолюбием и движимые одинаковой ненавистью к своим отцам, эти два князя замыслили лишить их трона и поклялись друг другу в нерушимой верности, когда осуществят свой замысел. Узнав об этом гнусном заговоре, Амурат вызвал к себе несчастного императора, чтобы тот отчитался о поведении Андроника. Иоанн Палеолог унизился и, чтобы отвести от себя подозрения, принял предложение своего союзника выступить против их мятежных сыновей, привести их к покорности и наказать за восстание, лишив их зрения. Амурат поспешил переправиться в Европу и настиг мятежных князей недалеко от Априцидиона. С наступлением ночи он верхом подъехал к их лагерю и призвал их вернуться к повиновению, если они хотят получить прощение. Услышав властный голос своего повелителя, солдаты, поддержавшие Савджи, массово дезертировали и умоляли Амурата о милосердии. Молодой князь, преданный и покинутый, укрылся в Дидимотике с небольшим числом спутников и сыновьями греческих дворян, верных его судьбе. Отец не потерял его след и сразу же осадил город. Голод быстро дал о себе знать, и гарнизон был вынужден сдаться. Амурат, возмущенный упорным мятежом Савджи, приказал выколоть ему глаза, а затем отрубить голову. Что касается греческих дворян, он приказал привести их к себе и сбросить с высоты крепостных стен этих несчастных пленников, связанных по двое или по трое, в воды Марицы. Сам он дошел до такой жестокости, что наблюдал за этим ужасным зрелищем из своего лагеря.
Едва Амурат удовлетворил свою жестокую строгость, как он отправил приказ Иоанну Палеологу поступить с его сыном так же, как с Савджи. Грек повиновался: Андроник, приговоренный к лишению зрения путем вливания кипящего уксуса, избежал полной строгости наказания лишь благодаря неловкости палача. Удовлетворенный покорностью императора в исполнении его приказов, Амурат мало беспокоился о том, что сообщник Савджи не был полностью лишен зрения. Иоанн Палеолог затем заточил честолюбивого князя в башне Анемас вместе с его женой и младенцем-сыном, а Мануила назначил своим преемником вместо брата.
Этот князь обосновался в Салониках, где он был правителем. Вскоре забыв о страшной катастрофе в Дидимотике и опасном положении своего отца, который удерживался на троне лишь благодаря крайней покорности, он задумал отобрать у османов важный город Феры. Узнав об этом вероломстве, Мурад отправил одного из своих лучших полководцев, Хайреддин-пашу, за Босфор с приказом захватить Салоники и доставить Мануила в цепях. Рвение, с которым османы, численно превосходившие греков в три раза, осаждали город, напугало жителей. Всегда склонные к мятежу, они восстали против Мануила и пригрозили открыть ворота врагу, если он не получит подкрепления из Константинополя. Князь поспешил сообщить отцу о своем бедственном положении: робкий император ответил, что не только не может оказать ему помощь, но даже не осмелится принять его при дворе, опасаясь вызвать гнев своего могущественного союзника. Лишенный всякой поддержки и окруженный угрозами, Мануил ночью бежал на галере и отправился просить убежища у генуэзского правителя Лесбоса, которого ему отказал отец в своем дворце. Но и там царил страх перед именем Мурада, и ему запретили вход в порт острова. Тогда он принял смелое решение отправиться в Прусу, чтобы умолять о милости своего победителя. Эта уверенность врага смягчила негодование Мурада. Он вышел ему навстречу, мягко упрекнул его за преступное поведение, великодушно даровал ему прощение, которого тот просил, и отправил его к отцу, приказав тому с добротой принять наследника своего трона. Салоники вскоре перешли под власть турок.
Греческая империя слабела с каждым днем; османы и их союзники окружали ее со всех сторон; они владели Херсонесом; часть Фессалии принадлежала им; оставалось лишь одно дуновение, чтобы разрушить трон Константина. В этот период упадка часто вспыхивали гражданские раздоры. Так, мятежник Андроник, освобожденный из тюрьмы генуэзцами, получил от своих новых союзников помощь для нападения на императора. Он заставил своего отца капитулировать и принять его в Константинополе, после того как тот торжественно поклялся отказаться от своих гнусных планов. Но вскоре, нарушив свои клятвы, он осмелился совершить еще более преступные деяния, чем прежде. Поддержанный своими старыми сторонниками, он провозгласил себя императором и заточил отца и братьев в тот самый дом, из которого его освободили. Они провели там два года; один из их друзей добыл им свободу и убежище в Скутари. Узнав об этом, Андроник принял решение, которое поразило греков: вместо того чтобы ввязываться в святотатственную войну, которая могла навлечь на империю величайшие бедствия, он попросил прощения у Иоанна Палеолога, заявив, что отказывается от своих узурпаторских планов, и, чтобы убедить его в этом, покинул Константинополь со всей своей семьей. Император, смягченный покорностью Андроника, обошелся с сыном доброжелательно и выделил ему небольшой удел, где тот жил спокойно.
Пока империя раздиралась междоусобицами, Мурад, который после четырехлетней борьбы подчинил Македонию и Албанию, столкнулся с новой угрозой со стороны Сербии и был вынужден, чтобы предотвратить ее, отказаться от отдыха. Действительно, сербский деспот Буйко Лазарь поднял восстание и объединил против османов в одну конфедерацию валахов, венгров, далматинцев и трибаллов. Эта грозная лига не испугала Мурада; он ускорил приготовления к новой экспедиции в Европу. Но прежде чем отправиться в поход, он послал Лазарю мешок проса, символизирующий бесчисленные войска, которые он вел против Сербии; деспот сразу же раздал подарок домашней птице в присутствии послов; затем, повернувшись к ним, сказал: «Вы видите, как быстро эти птицы склевали ваше просо; передайте своему господину, что его люди, какими бы многочисленными они ни были, будут так же быстро уничтожены сербами». Он сдержал слово: армия из двадцати тысяч османов, атакованная силами объединенных народов, была уничтожена. Мурад лично прибыл (1389); он лишил владений болгарского царя Шишмана, на дочери которого был женат, и настиг сербов на Косовом поле, на границе Боснии и Сербии.
Амурат провел часть ночи в совещании с самыми опытными своими генералами и двумя сыновьями, Баязидом и Якубом. Он поручил командование правым крылом своей армии первому, а левым – второму. На следующий день он подал сигнал к битве. Столкновение было ужасным: ярость, которая одушевляла обе армии, долгое время оставляла исход сражения неопределенным. Левое крыло османов начало отступать, когда Баязид поспешил на помощь, прокладывая себе путь своей грозной булавой. Несмотря на чудеса храбрости, христиане были разбиты; множество их предводителей осталось на поле боя; Лазарь, окруженный со всех сторон, попал в руки врага вместе с большинством знатных сербов. После этой победы, которая уничтожила союз и независимость славянских племен, Амурат отправился осмотреть место побоища и опознать погибших. «Странная вещь, – сказал он, обращаясь к своему великому визирю Али-паше, – среди всех этих мертвецов я вижу только юношей! – Это то, что дало нам победу, – ответил визирь; – эта безрассудная молодежь слушает только пыл, который ее одушевляет, и гибнет у наших ног; люди более зрелого возраста не стали бы противостоять непобедимому оружию османов. – Что кажется мне еще более удивительным, – добавил Амурат, – так это то, что события сложились таким образом после сна, который я видел прошлой ночью; я приятно обманут, ибо мне казалось, что меня пронзила вражеская рука». Едва он произнес эти слова, как солдат-трибалл, выскочив из груды мертвых тел, вонзил ему кинжал в живот, отомстив за поражение христиан убийством победителя.9
Стража немедленно бросилась на несчастного и растерзала его. Амурата перенесли в его шатер, где он испустил дух, произнеся смертный приговор Лазарю, своему врагу, и другим знатным сербам. Его останки были перевезены в Прусу и погребены в мечети, построенной по его приказу.
Этот правитель обладал многими достоинствами. Несмотря на жестокость, которую он проявил в казни Сауджи и под стенами Дидимотики, нельзя отрицать его выдающихся интеллектуальных способностей и редкой энергии. Его любовь к справедливости и простой образ жизни сделали его дорогим для своего народа.
Правление Баязида I, старшего сына и преемника Амурата, началось с братоубийства. Перед безжизненными останками своего отца, выставленными у входа в шатер, он приказал казнить несчастного Якуба, который своей храбростью завоевал любовь части войск и стал ему подозрителен. Этот правитель, которого турки прозвали Ильдерим (молния, гром), а греки – Аойао (ураган) за неистовство души и стремительность своих разрушительных походов, возможно, превзошел самого Амурата и, несомненно, внушил христианскому миру больше страха. Он продолжил войну, начатую его отцом против Сербии, заставил Стефана, сына Лазаря, присягнуть ему на верность и заключил с ним мирный договор, по которому тот обязался предоставлять контингент во всех войнах османов, отдать свою сестру в жены и выплачивать ежегодную дань. Затем он занялся унижением греков. Решив захватить Филадельфию, единственный город, который они сохранили в Азии, он потребовал помощи от своих новых союзников – сербского князя и императора Константинополя. Комендант города отказался сдать его варвару и принять турецкого губернатора и судью, после чего Иоанн Палеолог и Мануил первыми бросились на штурм собственного города, чтобы отдать его Баязиду.10 Этот правитель построил там мечети, школу и бани.
После подчинения эмиров Айдина, Сарухана, Кермиана и Карамании (1390) и организации управления в завоеванных землях османский султан переправился через Босфор, чтобы направить все свои силы против европейских правителей. Сначала он укрепил важный город Галлиполи, где вырыл гавань для своих галер, а затем решил обратить свое оружие на Архипелаг. Чтобы греческий император стал свидетелем его новых триумфов, он первым среди своих вассалов потребовал от него привести контингент. Мануил поспешил прибыть в лагерь османов как смиренный вассал во главе сотни человек. Вскоре Баязид запретил экспорт зерна из Азии на острова Лесбос, Родос и Хиос. Флот из шестидесяти крупных судов, отправленный против последнего, обратил в пепел его города и деревни, опустошил другие острова Архипелага, Эвбею и часть Аттики.
Жан Палеолог, встревоженный явной дерзостью, с которой Баязид расширял свою тиранию и угрожал захватить всё, задумался, но слишком поздно, об укреплении своей столицы. Поскольку материалов не хватало, по его приказу были разрушены три самых красивых церкви Константинополя: церковь, основанная Львом Философом в честь всех Святых; церковь Сорока Мучеников, памятник благочестия императора Маркиана; и церковь Святого Мокия, возведённая при Константине Великом. Именно из огромных мраморных блоков, взятых из этих храмов, он приказал восстановить у Золотых ворот две большие башни, ранее разрушенные по его же приказу, где он надеялся найти надёжное убежище в случае крайней необходимости. Узнав об этих приготовлениях, Баязид написал императору и выразил свою волю следующими словами: «Ты немедленно разрушишь эти новые укрепления, или твой сын Мануил будет ослеплён и возвращён тебе слепым11». Жан Палеолог, испуганный угрозами, нависшими над наследником его трона, ещё раз подчинился этому приказу, но горе, вызванное столь жестоким унижением, вместе с муками тяжёлой подагры, вскоре привело его к могиле (1391). Ему был шестьдесят один год; слабый, бездеятельный и всегда погружённый в праздность, этот князь не имел ни энергии для великих преступлений, которые создают тиранов, ни для великих добродетелей, которые создают хороших правителей.
Глава III. Баязет и Тамерлан
Мануил взошел на константинопольский престол. – Баязет переправляется в Европу. – Он опустошает империю и угрожает столице. – Никопольский крестовый поход. – Поражение христианской армии. – Вторжение османов в Грецию. – Мануил делит империю с племянником. – Экспедиция маршала Бусико. – Мануил отправляется умолять западных королей. – Его въезд в Париж. – Он направляется в Англию. – Его возвращение во Францию. – Бездействие Баязета. Появление Тамерлана спасает Константинополь. – Многочисленные походы этого завоевателя. – Посольство Тамерлана к Баязету. – Султан требует от племянника Мануила сдать столицу. – Осада и взятие Себастии монголами. – Баязет переправляется в Азию. – Разграбление Алеппо и Дамаска. Разрушение Багдада. – Битва при Ангоре. – Поражение и пленение Баязета. – Попытки его сына Магомета освободить его. – Смерть Баязета. – Возвращение Тамерлана в Самарканд. – Он умирает во время похода на Китай.
Слабый Иоанн Палеолог оставил престол своему сыну Мануилу, одному из самых искусных политиков своего времени; но этому князю не хватало воинских доблестей в тот момент, когда нужен был герой, чтобы поддержать шатающийся трон цезарей. Поэтому империя при его правлении быстро приближалась к гибели. Узнав о смерти отца, Мануил, находившийся в Прусе при дворе Баязета, не осмелился открыто заявить о своих правах на наследство; он бежал и вернулся в Константинополь. Там он был признан императором и приказал с обычной пышностью отпраздновать похороны своего предшественника. Узнав о бегстве греческого князя, гнев Баязета сначала обрушился на рабов, которым он поручил его охрану, и особенно на Мануила. Но, одумавшись, он оставил беглецу право жить, чтобы подчиняться, и отправил к нему одного из своих офицеров с посланием: «Отныне в Константинополе должен находиться мусульманский кади (судья); ибо не подобает, чтобы верующие, вызванные своими делами в этот город, были лишены своих истинных судей: такова моя воля; если ты не желаешь подчиняться и не соглашаешься на мою просьбу, оставайся в пределах своего города; все внешние земли принадлежат мне»12.
Властный мусульманин, восприняв двусмысленный ответ Мануила как отказ, перешел из Вифинии во Фракию, опустошил все деревни от Панидоса до стен Константинополя и переселил всех жителей в Азию. Затем он захватил Салоники и все окрестные крепости. С этого момента началась фактически первая осада, или, точнее, первая блокада столицы греческой империи, которая должна была продлиться пять лет. Он оставил у стен города наблюдательный отряд, задачей которого было изнурять греков днем и ночью, а остальную часть своей армии разделил на две части: одна вошла в Пелопоннес, чтобы опустошить Ахайю и Лакедемон, а другая предала огню и мечу Романию.
Пелопоннес в то время управлялся Феодором Палеологом, братом нового императора. Этот князь, который за несколько лет до этого сменил Мануила и Матфея, сыновей Кантакузина, отличался всеми качествами, которые снискали ему любовь подданных. Восстановив спокойствие в своих владениях, он занялся исправлением последствий войны. Вскоре молва разнесла вести о его добродетелях и мягкости правления. Множество иностранцев покинули свою родину, чтобы поселиться на Пелопоннесе, где все обрело новый облик. Города, ранее заброшенные, наполнились жителями; некогда пустынные, а теперь возделанные поля приносили обильные урожаи; леса, служившие пристанищем разбойникам, были вырублены, и земля возвращена земледелию. Наконец, около десяти тысяч иллирийцев, изгнанных страхом перед турками из своей страны, нашли новую родину на Пелопоннесе вместе с женами, детьми и стадами и стали верными подданными Феодора. С их помощью он сначала отвоевал у турок несколько важных крепостей, затем полностью изгнал их из своих владений и одержал решительную победу над ахейским князем, своим врагом. В довершение счастья Феодор женился на одной из дочерей Ренье Аччайоли, герцога Афинского; она принесла ему в приданое город Коринф, приобретение которого сделало его обладателем одного из ключей к Пелопоннесу. Но эти славные дни длились недолго: они не смогли затмить возросшее влияние турок в этом регионе и во всех провинциях империи.
Вскоре за стенами Константинополя не осталось ни жнецов, ни мельников, чтобы молоть пшеницу. Гнев, голод и отчаяние терзали горожан; чтобы мучить город, тиран не разрушал его стен, не обрушивал на него свои мощные машины; но его солдаты, расположившиеся вокруг, осуществляли строжайший надзор, перекрывали все выходы, так что ничего не могло ни войти, ни выйти: так голод ежедневно усиливался из-за нехватки хлеба, вина и масла. Не хватало и дров для приготовления хлеба и других продуктов, необходимых для поддержания жизни; чтобы добыть их, люди разбирали дома. Неспособный противостоять такой могущественной силе, как османы, Мануил написал папе, императору Германии, королям Франции и Венгрии; он сообщал им о могуществе, амбициях, успехах Баязета, о крайнем положении, в котором оказался Константинополь, и об угрозе, нависшей над Европой, которой угрожал самый страшный из завоевателей. Он предупреждал их, что если они позволят тому, что осталось от греческой империи, пасть под ударами мусульман, то варвары, однажды преодолев барьер, хлынут в западные регионы и покроют их руинами и кровью.
Тем временем болгарский князь Шишман, у которого турки отняли его владения – часть до, а часть после битвы при Косово, – отчаявшись продолжить свою оборону в Никополе, где он укрылся, сдался вместе с сыном в лагере Али-паши. Оба явились с саванами на шее, умоляя о пощаде жизни. Шишман был отправлен пленником в Филиппополь, а затем казнен. Его сын избежал казни, приняв ислам, и в награду за свое отступничество получил управление Самсуном (Амисус), недавно покоренным городом в Азии. Встревоженный действиями Баязида, венгерский король Сигизмунд отправил к нему послов с требованием объяснений относительно его новых завоеваний вблизи своих провинций. Глава османов принял их в зале, украшенном оружием и болгарскими трофеями, и в качестве ответа просто показал на луки и стрелы, висевшие на стенах, как на свои права на владение Болгарией (1394). В том же году Баязид, возгордившись своими успехами, пренебрег титулом эмира и принял титул султана, который ему даровал египетский халиф, находившийся в подчинении у мамлюков.
Убежденный в том, что война с Баязидом стала неизбежной, венгерский король искал союзников повсюду и обратился за помощью к французскому королю Карлу VI. Подготовившись, он перешел Дунай и начал кампанию с осады малого Никополя, который отбил, несмотря на упорное сопротивление защитников. Однако дело Сигизмунда, сына и брата западных императоров, волновало Церковь и Европу. При первых слухах о его опасности множество авантюристов из Италии, храбрейшие французские и немецкие рыцари взялись за оружие, чтобы противостоять общему врагу христианского имени. В начале весны Карл VI смог отправить в этот новый крестовый поход около восьми тысяч наемников, которых он нанял, и отряд из тысячи рыцарей. Эти различные войска возглавлял граф Неверский, позже прозванный Жаном Бесстрашным, бесстрашный сын Филиппа Смелого, герцога Бургундского. Этот принц, которому было всего двадцать два года, не имея никакого опыта в войне, имел в качестве наставника графа д’Э, коннетабля Франции, который должен был командовать армией от имени молодого капитана. Самые знатные личности желали разделить славу священной войны. В этом элитном отряде выделялись графы Барский и де ла Марш, кузены короля, Филипп д’Артуа, адмирал Жан де Вьен, сеньор де Куси, маршал Бусико, один из лучших генералов того времени, Ги де ла Тремуй, сеньор де Сампи, сеньор де Руа и сеньор де Сен-Поль. К французским дворянам присоединились, по пути через Германию, Филибер де Найак, великий магистр ордена Святого Иоанна, Фридрих Гогенцоллерн, великий приор тевтонских рыцарей, граф де Сенк и баварец Шильтерберг, историк этой экспедиции. Валашские войска под командованием их князя Мирчи также присоединились к армии венгерского короля.
Французские союзники, пройдя через Баварию и Австрию, соединились с Сигизмундом в Буде. Увидев столько храбрецов, король, не сомневаясь в успехе, воскликнул: «Чего нам бояться турок? Даже если небо упадет, у нас достаточно копий, чтобы удержать его над нашими головами». Христианская армия, насчитывающая шестьдесят тысяч человек, перешла Дунай, вошла в Болгарию, захватила у неверных несколько городов, безжалостно вырезав всех их жителей, и осадила Никополь, важный пункт, защищаемый храбрым гарнизоном, которому Баязид не мог долго не помочь. После тщетных попыток взять город штурмом, осаждающие, у которых не было пушек, решили взять его измором. Полные уверенности в своем превосходстве, союзники предавались играм и удовольствиям без меры и говорили о султане с величайшим презрением. Они сомневались, что у него хватит смелости переправиться через Босфор, чтобы атаковать их. Но в тот момент, когда они предавались обманчивой безопасности, им пришлось признать очевидное: враг приближался.
Пока командир гарнизона Никополя сдерживал христианскую армию у стен города своей храброй обороной, Баязид завершил все приготовления. Быстрый и искусно скрытый от союзников марш привел его на расстояние двадцати четырех километров от их лагеря, где царили беспечность и беспорядок. Предупрежденные о его приближении мародерами, которых турки обратили в бегство, союзники поспешно сняли осаду и с безрассудной жестокостью вырезали в лагере пленных, которые были отданы им на слово. Как только первые разведчики врага, арабы, появились на равнине, пылкий граф Неверский потребовал для французской кавалерии почетное место в бою. Король Сигизмунд, который уже знал по опыту, как сражаться с турками, умолял крестоносцев оставить его венгров в авангарде, чтобы противопоставить легкие войска легким войскам, а элиту армии сохранить для борьбы с янычарами и спахиями. Но французские рыцари не желали ничего слушать, кричали, что никогда не уступят место венгерской пехоте, и все бросились в передовые ряды. Тогда две армии двинулись вперед, и битва началась (22 сентября 1396 года). Турецкая пехота была рассеяна первым натиском храбрых соратников графа Неверского. Даже янычары не смогли устоять перед этой группой воинов. Десять тысяч янычар уже лежали мертвыми на поле боя, а остальные искали убежища за спинами спахиев, когда французы, бросившись на вторую линию, прорвали ее и обратили в бегство. Увлеченные своей кипучей энергией и не слушая голоса благоразумия, они бросились преследовать бегущих, не соблюдая никакого порядка, и так добрались до вершины холма. Но каково же было их удивление, когда они увидели, что лучшие силы Баязида встречают их лесом из сорока тысяч копий! Удивление вскоре сменилось паническим ужасом; испуганные, они бросились в бегство в ужасном беспорядке. Только рыцари упорствовали и сражались с отчаянием. Окруженные со всех сторон кавалерией, воодушевленной присутствием султана, большинство из них нашло славную смерть среди вражеских копий. Граф Неверский и двадцать четыре его главных соратника попали в плен к туркам.
Однако венгры выстроились в боевой порядок всего в тысяче шагах от французов. Этьен Ларкович командовал левым флангом, а князь Мирч – правым, состоявшим из его влахов. Как только они увидели, что французы возвращаются в беспорядке после атаки на элиту османов, оба фланга позорно бежали, несмотря на усилия Сигизмунда вернуть их в бой. Только баварцы и штирийцы выдержали удар врага. Укрепившись за счет бежавших французов, они бросились на войска султана и восстановили бой. Они уже оттеснили янычар и посеяли страх в рядах спахиев, когда прибытие сербского князя, союзника Баязида, с подкреплением в пять тысяч человек решило исход битвы, которую их чудеса храбрости держали в suspense. Большинство погибло, защищая знамя Сигизмунда. Сам король, вырванный из схватки архиепископом Грана и Этьеном Канишским, его братом, лишь с неохотой покинул поле боя, усеянное телами штирийских и баварских рыцарей, и бросился в маленькую лодку, сопровождаемый несколькими храбрыми товарищами, чтобы добраться до объединенного флота Венеции и Родоса, стоявшего на якоре в устье Дуная.13
Он сначала отправился в Константинополь, а оттуда, долгим путем, в свои истощенные владения.
Баязид, победитель союзной армии, отправился лагерем под Никополь, и на следующий день пожелал осмотреть равнину, где храбрые солдаты так яростно оспаривали у него победу. При виде множества турецких трупов, покрывавших ее, и которых несколько историков насчитывают более шестидесяти тысяч, он пролил слезы ярости и решил отомстить христианам за мусульманских воинов, которых вражеский меч только что скосил. Он приказал, чтобы все пленные были приведены к нему на следующий день. Более десяти тысяч были приведены к нему с веревками на шее и связанными за спиной руками. Он согласился пощадить графа де Невера и двадцать четыре главных вельможи, среди которых были граф де ла Марш, коннетабль д'Э, маршал де Бусико, сеньоры де Куси и Ги де ла Тремуйль, от которых он ожидал богатого выкупа; но он потребовал, чтобы они стали свидетелями ужасного удовлетворения, которое он собирался воздать памяти своих верных османов. Свирепый султан тут же отдал приказ о всеобщей резне. Из всех этих несчастных пленных одни были отданы палачам и обезглавлены, другие забиты дубинами. Резня продолжалась без перерыва от восхода солнца до четырех часов дня. Она прекратилась только по просьбе вельмож империи, которые, потрясенные этим ужасным зрелищем, бросились на колени перед Баязидом и умоляли о милосердии. Жажда мести тирана на время утолилась кровью стольких христиан; он оставил остальных тем, кто взял их в плен; затем приказал, чтобы граф де Невер и его двадцать четыре товарища были закованы в цепи и заточены в башне Галлиполи.

