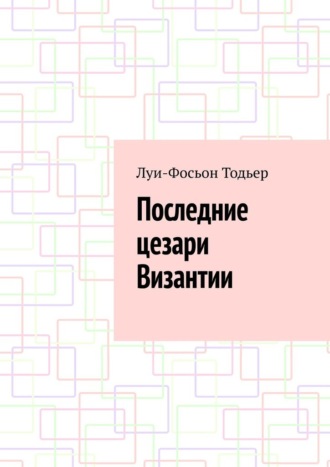
Полная версия
Последние цезари Византии
Пока император занимался восстановлением Константинополя, Михаил, деспот Эпира, враг спокойствия, опустошал сельские местности, захватывал города и смело нападал на границы империи. Палеолог послал против него Алексея Стратигопула. Но цезарь был разбит после нескольких успехов и попал в руки врага. Деспот подарил его своему зятю Манфреду, королю Сицилии, который требовал его, чтобы казнить вместе с его сестрой Анной, вдовой императора Ватаца, удерживаемой в Константинополе.
Жестокость, проявленная по отношению к юному Ласкарису, вызвала справедливое возмущение греков; но они ограничивались ропотом. Только горцы в окрестностях Никеи, простые и суровые люди, подняли знамя восстания и, встретив ребенка восьми или девяти лет, ослепшего от болезни, решили убедить себя, что это Ласкарис, принц, которого они поклялись защищать ценой своей жизни. Они перенесли его в свои горы, одели в императорские одежды, окружили охраной, оказывали ему все почести, положенные государю, и обещали отомстить за него, хотя этот ребенок, крайне изумленный, не понимал, о чем они говорили. Узнав об этом странном восстании, Палеолог послал войска против мятежников (1263). Их не смогли выбить из гор, но подкупили подарками, и после бегства ложного Ласкариса к туркам восстание угасло само собой.
По возвращении из похода против султана Икония Палеолог серьезно занялся вопросом снятия отлучения, наложенного на него Арсением. Он пытался всеми способами смягчить гнев патриарха. Он просил лишь назначить ему покаяние, которое он обещал исполнить, каким бы тяжким оно ни было. Император лично бросился к ногам святителя, но, несмотря на свои горячие мольбы, услышал лишь такие слова: «Сделайте то, что может искупить преступление, которое вы совершили». Непреклонный Арсений отказался указать способ искупления и лишь снизошел до того, чтобы произнести, что за великие преступления искупление должно быть суровым. «Неужели же, – сказал Палеолог, – я должен отречься от престола?» С этими словами он вынул свой меч и предложил или, казалось, предложил передать его патриарху. Патриарх протянул руку, чтобы взять этот символ власти, но император, не намеревавшийся платить так дорого за свое прощение, вложил меч обратно в ножны и продолжил свои мольбы. Тогда Арсений с негодованием удалился во внутренние покои, оставив у дверей умоляющего монарха (1263).
После этих унизительных попыток Михаил, отчаявшись смягчить непоколебимую твердость патриарха, громко жаловался на его суровость. Он созвал епископов и искусно дал им понять, что, если они не найдут канонического способа отпущения его грехов, он может найти более снисходительного судью в Риме. Епископы, испуганные этим, отправили послов к Арсению, чтобы смягчить его, но послы были плохо приняты, и им было поставлено в вину их потворство преступному князю. Собор низложил Арсения, и отряд солдат доставил его на маленький остров Проконнес, где никто не мог его видеть (1266). Герман, епископ Адрианопольский, человек образованный в гуманитарных науках, легкий и приятный в общении, с правильными нравами и добродетелями, лишенными суровости, занял византийский престол. Однако миролюбивые настроения нового патриарха не понравились большинству греков и увеличили число сторонников Арсения; Герман сам по себе не обладал достаточным авторитетом, чтобы простить императора. Он отрекся от своего нового сана в тот же год, когда был избран (1267), и удалился в небольшое жилище на берегу моря, решив провести там остаток своих дней в мире. Его преемником стал монах Иосиф, исповедник Палеолога. Осыпанный милостями государя, Иосиф снял анафему и позволил кающемуся вернуться в лоно церкви (1268). Первым условием, наложенным на узурпатора, было облегчение участи жертвы его амбиций. Он назначил несчастному Ласкарису богатое содержание, чтобы тот жил в роскоши в замке Дакибиза; и после примирения с Церковью он выражал князю самыми искренними словами и поступками свое глубокое сожаление и бесполезную нежность. Однако дух Арсения продолжал жить в многочисленных сторонниках, которых он имел среди монахов и духовенства, и Иосиф считался узурпатором.
Новая императорская резиденция уже стала губительной для восточных провинций; Палеолог, отрезанный от Азии, не часто обращал свой взор на провинции за Босфором. Жадные правители угнетали их, и, опустошив, бросали на произвол туркам. Эти провинции были бы потеряны, если бы он не отправил туда своего брата Иоанна, князя, удостоенного титула деспота, человека проверенной храбрости и большого мастерства в военном деле. Иоанн изгнал эту хищную орду и восстановил прежний порядок; его мужество и энергия сдержали все возрастающую дерзость турок, чьи грабежи, казалось, оправдывали мнение старого сенатора Торникия, и заставили их просить мира. Сохранение Востока требовало присутствия деспота или императора; но первый был почти всегда занят борьбой с варварами на западной границе, а Палеолог был вынужден оставаться в Константинополе из-за мятежных движений арсенитов, которые уже образовали в государстве мощную партию, одновременно религиозную и политическую.
После смерти деспота Эпира Михаил разделил свои владения между двумя сыновьями; Никифор, старший, получил старый Эпир; так как он рассчитывал на храбрость Иоанна, он назначил ему земли, которые предстояло отвоевать у империи, то есть всю Фессалию от горы Олимп до Парнаса. Этот беспокойный князь принял титул герцога Патрского и вскоре захватил часть того, что его отец оставил ему для завоевания. Палеолог выступил против него с многочисленной армией, командование которой он поручил деспоту Иоанну. Этот бесстрашный генерал сначала захватил почти все укрепленные места в Фессалии. Неспособный противостоять войскам своего врага и покинутый своими, герцог заперся в своей столице, Неопатрасе; он был сразу же осажден. Но его гибель была неизбежна в месте, где вскоре должен был закончиться провиант. Тогда он руководствовался только своей отвагой и необходимостью. Он бежал из города в одну из самых темных ночей, переодевшись, и отправился к Иоанну де ла Рошу, великому герцогу Фив и Афин. Он получил от него пятьсот афинских всадников, храбрых и закаленных в боях, с которыми он внезапно напал на армию деспота и обратил ее в бегство. Побежденный князь не мог простить себе этого поражения; он снял с себя знаки своего достоинства и этим добровольным унижением снизошел до уровня простого гражданина (1271).
Примерно в это время Андроник, старший сын императора, достигнув пятнадцати лет, женился на дочери Стефана V, короля Венгрии. Этот брак был благословлен патриархом Иосифом в церкви Святой Софии и отпразднован в Константинополе с великолепием, которое Палеолог выказал с редкой пышностью. Стремясь обеспечить преемственность своей семьи, он на следующий год решил разделить пурпурные почести с Андроником. Этот князь, впоследствии прозванный Старшим, был торжественно коронован и провозглашен императором римлян. Он носил этот величественный титул в течение долгого и не слишком славного правления, девять лет как соправитель своего отца и пятьдесят лет как его преемник.3
Внешние враги Михаила постоянно тревожили его и были не менее грозными, чем внутренние. Его завоевание и пребывание в Константинополе казались дерзким вызовом всем тем латинянам, которые свергли греческую империю и разделили её остатки под верховенством Иннокентия III. Особенно венецианцы не могли добровольно отказаться от своих многочисленных владений. Чтобы противопоставить им полезных для себя соперников, генуэзцев, император разжег войну между двумя морскими державами, которая могла помешать венецианцам взяться за оружие против греков. Своими настойчивыми требованиями относительно этого союза и отлучением генуэзцев Урбан IV предупредил Палеолога об угрожающей ему опасности и о способе избавления от неё. Воссоединение греческой церкви с римской, которое он планировал с момента завоевания Константинополя, могло бы удовлетворить Запад и, возможно, заинтересовать его в трудном положении империи. Кроме того, брат Людовика IX, Карл Анжуйский, который стал королем Сицилии в то время, в 1267 году по договору с низложенным императором Балдуином II приобрел права на византийский трон для своей дочери Беатрисы, с возможностью перехода этих прав на него самого. Папа, чьим вассалом был король Сицилии, мог, благодаря своему авторитету, вооружить или удержать христианского князя. Поэтому для императора было крайне важно заручиться его благосклонностью.
Михаил созвал собрание духовенства в своем дворце и, несмотря на сопротивление епископов, предложил воссоединение с папой Григорием X. Он не скрывал, что ищет в этом гарантию своего существования. Раздраженный сопротивлением, он издал указ, в котором заявил, что, отвоевав Константинополь силой, он стал владельцем всех домов в городе; что он готов простить арендную плату тем, кто подчинится ему, но что упрямцы будут обязаны её платить (1273). Некоторые согласились из-за невозможности платить; другие ушли в изгнание; третьи были наказаны имперской властью и подверглись самым позорным оскорблениям; основная масса народа осталась непоколебимой в своем сопротивлении. Иосиф, навязанный патриарх, опубликовал пастырское послание, в котором поклялся, что никогда не согласится на воссоединение; Арсений, низложенный патриарх, из глубины своего изгнания наложил новое отлучение на императора, предал его Сатане и умер с теми же чувствами.
Эти бессильные громы не остановили императора; посольство, состоящее из доверенных министров и прелатов, отправилось в Италию (1274), везя дары для церкви Святого Петра, драгоценные украшения, золотые иконы, благовония, ковер для главного алтаря Святой Софии, розового цвета, сотканный из золота и усыпанный жемчугом. Две галеры, на которых плыли послы и их многочисленная свита, попали в бурю; одна из них разбилась о берег, и море поглотило богатые дары, которые император отправлял папе. Григорий X принял послов Михаила Палеолога на Вселенском соборе в Лионе, во главе пятисот епископов. Почтенный понтифик пролил слезы радости над своими долго заблуждавшимися, но наконец раскаявшимися детьми и дал им поцелуй мира. Греческие прелаты, во главе которых стоял Герман, последний патриарх Константинополя, пропели Символ веры и трижды повторили на своем языке, что Святой Дух исходит от Отца и Сына. Великий логофет, отрекаясь от схизмы от имени двух императоров, принял три условия: «Папа будет упоминаться в молитвах; апелляции в римский суд будут разрешены; первенство папы будет повсеместно признано.» После собора послы вернулись, довольные оказанными им почестями и знаками дружбы, которые им оказал папа. Согласно обычаю латинской церкви, он украсил прелатов кольцом и митрой. Они прибыли в Константинополь в конце осени того же года.
Но едва имя папы было произнесено на мессе с титулом вселенского епископа, как патриарх Иосиф, прелаты и монахи, семьи и собравшийся народ восстали против унии и снова начались волнения. Иосиф, по соглашению с императором, отказался от своего места и удалился в монастырь. Его заменил Векк, церковник, полный света и умеренности, от которого Палеолог ожидал умиротворения умов (1275). Но все усилия монарха смогли привлечь к повиновению только его придворных и нескольких искренних священников.
Несколько лет спустя папа Николай III, подозревавший греков в неверности, отправил в Константинополь легатов, которым поручил потребовать от всех церковнослужителей империи исповедание веры с клятвой никогда не отступать от нее. Император оказался в затруднительном положении: он боялся, что недовольный святой отец уступит настойчивым просьбам Карла Анжуйского и позволит ему напасть на Константинополь, а сам он не мог добиться от своего духовенства регулярного исповедания веры. Палеолог, чья лицемерная политика руководствовалась лишь мотивами выгоды, старался обмануть папских легатов. Он поклялся перед Богом греческим прелатам, что не допустит никаких изменений в их обычаях и ни малейшего добавления к символу веры их отцов, и посоветовал им действовать осторожно с легатами и отделываться красивыми словами. Таким образом, он добился акта, в котором двусмысленные фразы, смешанные с цитатами из Священного Писания, казалось, напоминали католический символ веры. Палеолог изложил легатам в длинной речи все, что он сделал и претерпел ради воссоединения с Западной Церковью. Чтобы они не сомневались в наказаниях, наложенных по его приказу на сектантов обоих полов и всех рангов, он приказал Исааку, епископу Эфесскому, провести латинских прелатов по тюрьмам. Тот показал им четырех князей императорской крови: Андроника Палеолога, первого конюшего, Рауля Мануила, виночерпия, его брата Исаака и Иоанна Палеолога, племянника Андроника, заключенных за сопротивление в квадратную тюрьму, прикованных к четырем углам и в приступе ярости потрясавших своими цепями. Император даже отправил папе двух самых упрямых схизматиков, предоставив их его мести. Николай III отослал их обратно, рекомендуя монарху снисхождение, но сохранил свои подозрения.
В то время как в Константинополе возмущались жестокостями того, кто во время поездки в Анатолию выколол глаза двум князьям-пленникам, в то время как его любимые генералы, его сестра Евлогия, его племянницы и другие члены его семьи покидали его дело, считая его святотатственным, в Риме жаловались на его медлительность и с полным основанием сомневались в его искренности. Наконец, папа Мартин IV, преемник Николая III (1281), не сдерживаясь более, обращался с греческими послами с презрением и публично отлучил в Орвието, на площади перед большой церковью, Михаила Палеолога и его сторонников как обманщиков и варваров, которые, чтобы лучше притворяться, безжалостно обращались с несчастными. В ответ император ограничился тем, что в праздничный день запретил упоминать имя папы в общественных молитвах.
Для свержения Палеолога образовалась лига между Филиппом, латинским императором, наследником Балдуина II, венецианцами и Карлом Анжуйским, королем Обеих Сицилий, чью доблесть и меч на некоторое время сдержал голос Григория X. Брат святого Людовика поручил командование своими войсками Соломону Росси, провансальскому дворянину. Они захватили Албанию и попытались взять крепость Белград. Палеолог поспешил на помощь этому месту; Росси был побежден и взят в плен в одной из стычек. Воспользовавшись смятением, которое этот первый неуспех вызвал у врагов, греки дали генеральное сражение, в котором победа увенчала их усилия. Но император, слишком просвещенный, чтобы не отчаиваться в своих силах, доверил свою безопасность успеху заговора, который готовил Иоанн де Прочида и который должен был отобрать Сицилию у самого опасного из его противников.
Избавившись от тревог, которые ему причинял Карл Анжуйский, Палеолог занялся усмирением своих соседей, на которых он имел жалобы, в частности, князя Лазов, продолжавшего носить титул императора Трапезунда. Затем он отправился воевать с князем Фессалии, нарушившим перемирие с ним. Прибыв близ Пакона, селения во Фракии, он внезапно умер в возрасте пятидесяти восьми лет (1282), мало оплакиваемый своей столицей; монахи, которыми город был наводнен, яростно поносили его память. За несколько дней до смерти он с радостью узнал о восстании Сицилии против Карла Анжуйского и о победе Петра Арагонского, событии, которое обеспечивало независимость Сицилии и безопасность трона Палеологов. Его сын Андроник, которого он назначил своим преемником, был провозглашен императором Востока.
Андроник II Старший окончательно разорвал временное соглашение между двумя церквями. Он разослал повсюду императорские указы, чтобы вернуть из изгнания защитников схизмы, сместил патриарха Векка и вернул Иосифа, который к тому времени был уже обременён годами. Храмы были очищены, кающиеся примирены, а новый император отказал останкам своего предшественника в погребении, подобающем отцу и даже христианину. Иосиф умер спустя некоторое время после возвращения на патриарший престол, и его сменил Григорий, который принял догматические взгляды латинян, но тем не менее выступил против объединения церквей. Этот прелат вскоре был вынужден отречься от престола, и его преемником стал монах Афанасий. В ходе этих различных выборов все, кто общался с Михаилом Палеологом и патриархом Векком, были с позором изгнаны со своих мест. Если верить Франдзе, Андроник действовал так из соображений разума и предвидения будущего. Это было, признаем, странное предвидение, которое отказывалось видеть в схизме вечную причину неприязни западных народов или, возможно, уже предпочитало турок латинянам. После резни Сицилийской вечерни страх перед Карлом Анжуйским исчез. Константин, брат императора, обвинённый и уличенный в заговоре, был заточён в железную клетку, и Андроник считал, что этим суровым поступком укрепил свой трон.
Однако государство не могло самостоятельно поддерживать себя и нуждалось в мощной помощи против растущей мощи мусульман, которая, казалось, предвещала скорое порабощение Андроника. Он был вынужден нанять итальянца Рожера де Флора и его каталонских альмогаваров (1303). Это были наёмные авантюристы, сицилийцы, каталонцы, арагонцы, которые сражались на суше и на море за дом Арагона или Анжу и оставались без дела в мирное время. Они носили железную сетку на голове и были вооружены небольшим щитом, мечом и несколькими дротиками. За двадцать лет войн они не знали другой родины, кроме лагерей или кораблей. Перед тем как вступить в бой с врагом, они ударяли мечом о землю, крича: «Железо, пробудись». Рожер де Флор отплыл из Мессины в Константинополь, сопровождаемый четырьмя крупными судами и восемнадцатью галерами, на которых находились восемь тысяч его бесстрашных воинов. Во время их пребывания в этом городе они убили нескольких генуэзцев, чьи лица и одежда стали поводом для насмешек. Император поселил отважного Рожера во дворце, выдал за него замуж свою племянницу и даровал ему титул великого герцога или адмирала Романии. После некоторого отдыха они переправились в Азию, где успех их первой кампании превзошёл ожидания Андроника, и две блистательные победы над турками, одна близ Кизика, другая у горы Тавр, заслужили их предводителю имя освободителя Востока. Прибытие другого авантюриста, Беренгера д’Энтенса (1306), и хорошие отношения, установившиеся между ним и Рожером де Флором, несомненно, избавили бы империю от многих бед, если бы греки смогли отказаться от своих привычек к вероломству.
Победив турок, Рожер внушал страх своим малодушным союзникам: он потребовал награды; но поскольку у императора больше не было тех сокровищ и доходов, с помощью которых Комнины могли покупать помощь русских и норманнов, его войскам заплатили фальшивой монетой. После отказа распустить своих товарищей он был приглашён на пир в дворец Андрианополя, где тогда находился двор, и заколот по приказу Михаила, которого его отец Андроник сделал соправителем. Узнав об этом преступлении, авантюристы, предавшись ярости, поклялись уничтожить греков и вырезали жителей Галлиполи. Беренгер д’Энтенса затем укрепился там, чтобы выдержать осаду, и после опустошения берегов Пропонтиды попытался поджечь в гавани Константинополя корабли своих вероломных союзников. К несчастью, он потерпел поражение и попал в руки генуэзцев, которые увезли его в цепях. Каталонцы тогда избрали своим предводителем Рокафора, зятя Рожера, и вскоре их отряды, украшенные титулом армии франков, господствуя во Фракии и Македонии, уничтожили имперские войска, выступившие против них. Они доминировали по обе стороны Геллеспонта и оставались хозяевами всей Фракии. Ещё пять лет (1307—1312) они держали Константинополь в напряжении, пока, ослабленные раздорами своих вождей и нехваткой провизии, не были вынуждены бежать из окрестностей столицы. Андроник считал себя счастливым, что смог направить разрушительные действия этого грозного ополчения к Афинскому герцогству, отделённому от империи, которым они овладели. Каталонцы, повсюду побеждавшие, разделили между собой Аттику и Беотию, четырнадцать лет наводили ужас на всю Грецию и несколько раз распоряжались своей добычей. Затем они исчезли из истории; но память об их опустошениях и греческая поговорка: «Да преследует тебя месть каталонцев!» – ещё долго сохранялись в памяти восточных народов.
Избавившись от этих затруднений, Андроник Старший, чьё долгое правление запомнилось лишь спорами в греческой церкви, вторжением каталонцев и усилением османской мощи, вынужден был защищать свой трон от нетерпения своего внука Андроника Младшего. Преждевременная смерть второго императора греков, Михаила, его отца (1320), однако, гарантировала этому князю скорое восшествие на престол; но его беспорядочная жизнь сдерживалась авторитетом и бережливостью его деда, и, опасаясь, что тот перенесёт свои надежды и привязанность на другого внука, он поднял знамя восстания. Иоанн Кантакузин, начальник священной палаты, стал советником и генералом молодого распутника, чьё дело он привёл к победе после пятилетней гражданской войны (1328). Лишённый всей власти, старый император сменил пурпур на монашескую рясу и умер в монастыре.
Глава II. Гражданские раздоры. – успехи османов
Слабость Восточной империи. – Начало могущества османских турок. – Правление Османа. – Завоевание Прусы. – Орхан. – Его успехи. – Раздоры среди греков. – Орхан женится на дочери Кантакузина. – Последний вступает в Константинополь. – Его умеренность. – Иоанн Палеолог женится на принцессе Елене. – Орхан посещает своего тестя в Скутари. – Гражданская война между двумя императорами. – Утверждение османов в Европе. – Палеолог как единственный император. – Завоевания Сулеймана. – Его смерть. – Горе и смерть Орхана. – Мурад I. – Успехи османов. – Заботы Мурада в мирное время. – Организация янычар. – Поражение короля Венгрии. – Иоанн Палеолог на Западе. – Заговор Андроника и Саонджи, раскрытый и наказанный. – Мурад захватывает Салоники. – Андроник провозглашает себя императором. – Он возвращается к повиновению. – Битва при Косово. – Смерть Мурада I. – Баязид I, его преемник. – Унижение греческого императора. – Его смерть.
После того как Константинополь избежал угрозы со стороны Хосрова и других не менее грозных врагов, город под властью некоторых своих императоров обрел видимую силу, скрывавшую его истинную слабость. Отчужденный от военного дела и погруженный в заблуждения раскола, его народ似乎 забыл о неумолимых врагах, которые угрожали ему и ждали лишь удобного момента, чтобы разрушить империю, чьи основы были глубоко подорваны моральным разложением и революциями. Удивительно, но среди бесконечных распрей и удовольствий, которые ежедневно усыпляли их бездействие, выродившиеся цезари холодно наблюдали за страшной драмой, которая разыгрывалась; они не видели, что потеря их короны должна стать ее развязкой. Если иногда они пробуждались от своей летаргии, чтобы прислушаться к далекому гулу бури, они успокаивали себя, рассчитывая расстояние, и снова погружались в сон. Таким образом, с момента отречения Кантакузина исторический интерес сосредоточился исключительно на османах, которые, повинуясь голосу умелых и смелых вождей, вскоре должны были нанести последний удар дряхлеющей Константинопольской империи. Давайте же посмотрим, что это был за новый народ, предназначенный Провидением заменить выродившийся греческий народ в Азии и Европе.
Господство сельджуков в Малой Азии прекратилось; после смерти храброго Аладина, их последнего султана, их империя, уже подчиненная монголами, была разделена эмирами на десять небольших независимых государств. Самыми могущественными из этих эмиров были Караман, получивший южные побережья Малой Азии, которым он дал имя Карамании, и Осман, сын Эртогрула, который навязал свое имя турецкой орде, которой он командовал. Одаренный всеми добродетелями солдата, Осман умело воспользовался обстоятельствами и повел свою орду на равнины Вифинии и Пафлагонии. Если верить турецким преданиям, сон предсказал ему великое будущее его потомства. Однажды ночью, когда он отдыхал у шейха Эдебали, видение поразило его во сне. Он видел себя лежащим рядом со своим хозяином, также спящим. Из груди шейха поднялась звезда Магомета – луна, которая, увеличиваясь на глазах и достигнув полного серпа, спустилась на него и погрузилась в его грудь. Затем он увидел, как из его чресл поднялось дерево с крепкими корнями, мощными ветвями и редкой красоты, которое протянулось, словно чтобы покрыть земли и моря. Это дерево отбрасывало свою тень до самого горизонта трех частей света. Под его сенью возвышались высокие горы – Кавказ, Атлас, Тавр и Хемус, напоминавшие четыре столпа вечного шатра. Из корней дерева вытекали Тигр, Евфрат, Нил и Дунай, покрытые кораблями, как море. Поля были украшены урожаями, а горы увенчаны густыми лесами, из которых били обильные источники, орошающие изумрудные луга, рощи роз и кипарисов этого Эдема. В долинах простирались далеко города, украшенные куполами, пирамидами, одалисками, величественными колоннами, гордыми башнями, на вершинах которых сиял полумесяц; затем галереи, откуда раздавались призывы к молитве, чей звук смешивался с пением бесчисленных соловьев и болтовней разноцветных попугаев. Вся разнообразная толпа обитателей воздуха пела и щебетала под прохладной тенью переплетенных ветвей и густых листьев, бесчисленных, вырезанных в форме сабель. Затем поднялся сильный ветер, который повернул кончики этих листьев к разным городам мира, и в особенности к городу Константина, который, расположенный на стыке двух морей и двух континентов, напоминал алмаз, вставленный между двумя сапфирами и двумя изумрудами, и казалось, образовывал самую яркую драгоценность в кольце обширного господства, охватывающего весь мир. Осман уже собирался надеть кольцо на палец, когда проснулся.4

