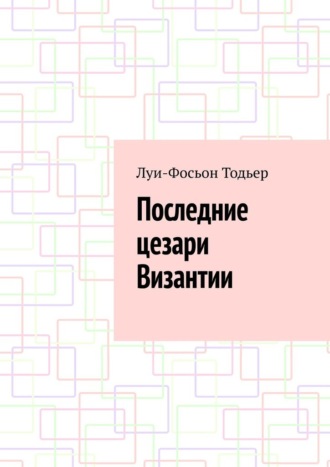
Полная версия
Последние цезари Византии
Это дерево было образом сына Эртогрула, истинного основателя народа и господства османов или оттоманов.
Новый завоеватель пересек Геллеспонт, и его присутствие распространило ужас в Херсонесе, жители которого бежали, оставив земли невозделанными на десять месяцев. После захвата Икония у монголов Осман атаковал храбрых рыцарей Святого Иоанна Иерусалимского на острове Родос, где они только что обосновались; но был отбит французом Фульком де Вилларе, великим магистром ордена (1315). Вскоре он оправился от этой неудачи благодаря внутренним волнениям в греческой империи. Наконец, в течение двадцати семи лет своего правления он постоянно совершал успешные набеги и подчинил большую часть владений сельджукских турок. Захват Прусы, одного из важнейших городов Малой Азии, его сыном Орханом, увенчал успех его оружия. Гордый завоеванием столицы и достойной его гробницы, Осман умер в том же году (1326), пресыщенный годами и славой, и почитаемый османами, которые с удовольствием признают в нем, наряду с предприимчивым гением и неукротимым мужеством, все качества, обычно присущие основателям империй. В момент последнего вздоха он обратился к старшему из своих сыновей, Орхану, который должен был стать его преемником, с выражением своей воли, рекомендовал ему не искать поддержки в тирании, считать справедливость самой прочной опорой государства, защищать своих подданных и править справедливо и мягко. Четыре месяца назад его в могилу опередил шейх Эдебали, ставший его тестем, а через месяц после него – его супруга, по имени Малхатун (женщина-сокровище), и он успел отдать им последние почести.
Завоевание Прусы может служить настоящей датой основания Османской империи. Взойдя на престол между гробом отца и колыбелью сына, украшенный лаврами недавней победы, Орхан превратил этот город в мусульманскую столицу. Он основал там мечеть, больницу и колледж, где самые искусные преподаватели привлекали персидских и арабских студентов из древних школ Востока. Одной из его первых забот было предложить своему брату Алаэддину раздел отцовского имущества, но тот отказался даже принять половину стад лошадей, быков и овец, попросив лишь для своего проживания деревню, расположенную на равнине Прусы, на западном берегу Нилюфера. «Что ж! – сказал Орхан, – раз ты не хочешь владеть лошадьми, коровами и овцами, будь тогда для меня пастырем народа, то есть визирем». Алаэддин, подчинившись желанию своего государя, стал первым визирем империи и разделил с князем заботы и тревоги управления. Не имея отношения к военному делу, Алаэддин занимался только администрацией и укреплял империю мудрыми установлениями, в то время как его брат расширял её новыми завоеваниями. Орхан отличил солдат от граждан одеждой и приказал, чтобы они носили исключительно белые тюрбаны. Затем он начал чеканить монету со своим именем и отверг, как последнее напоминание о прежней зависимости, монету с изображением сельджукидов Икония.
Войска Османа состояли лишь из непокорных отрядов туркменской кавалерии, которые служили без жалования и сражались без дисциплины. Он подал пример набора своей армии из пленных и добровольцев. Его сын решил усовершенствовать эту систему и создать милицию, которая, отрекаясь от своей родины, семьи и религии, отныне имела бы только волю своего вождя и пассивное повиновение. Он воспитывал в исламе молодых христианских детей, взятых на войне до возраста разума, и из этих несчастных сирот, которые не знали другого ремесла, кроме оружия, создал грозный корпус, которому османы обязаны большей частью своих успехов. Орхан сначала довёл численность этой милиции до двадцати пяти тысяч человек. Благодаря его заботам и уму искусные мастера построили машины, необходимые для осады и штурма городов.
Продолжая свои успехи в Малой Азии, Орхан захватил Никомедию в 1328 году, Никею пять лет спустя и подчинил всю Вифинию до берегов Босфора и Геллеспонта. В это время константинопольский трон занимал Андроник III, который наконец наслаждался плодами своего честолюбия. Этот князь был искусен в военном деле и обладал величайшей активностью. Его фаворит Кантакузин постоянно воодушевлял его своими советами и удерживал от уныния. Армия, которую сын Османа отправил против греков, была разбита и взята в плен при Траянополе (1330). Позже Андроник и Кантакузин обратили в бегство тридцать шесть турецких кораблей, приближавшихся к Константинополю. Но страсть императора к теологическим спорам и его приверженность схизме лишили его помощи Запада. Монахи с невиданным ожесточением отстаивали безумные фантазии, осуждённые собором, собравшимся в Святой Софии. Андроник III не преминул вмешаться в спор и умер от усталости после бурного обсуждения (1341). Он оставил своим преемником девятилетнего сына, Иоанна V Палеолога, опеку над которым получил Кантакузин.
Фаворит, который постоянно поддерживал слабость своего господина советами и примером, отказался от короны, которую больной и обескураженный император умолял его принять; но после смерти Андроника он дал волю своим честолюбивым замыслам. Сначала он отказался от управления под предлогом, что патриарх Иоанн Априйский завидует ему. Чтобы вернуть его, он уступил лишь настойчивым просьбам императрицы-матери и её клятве не верить клевете его врагов. Во всех своих действиях он старался скрыть своё желание достичь трона. Когда благодаря большим приготовлениям он заставил латинян Пелопоннеса подчиниться и платить дань, регент вернулся в Константинополь, чтобы разоблачить могущественную фракцию своих противников, во главе которой стояли патриарх и камергер Апокавк. Выйдя во второй раз из города, чтобы наблюдать за приготовлениями к экспедиции против латинян юга и против сербского князя, опустошавшего Македонию, Кантакузин был извещён, что императрица, уступив уговорам Апокавка, перешла в ряды его врагов, что его мать и семья не могут выйти из своего дома, где они находятся под наблюдением, и что он сам объявлен врагом государства. Подталкиваемый к войне своими солдатами, он предлагал отдаться в руки и на решение императрицы; но командиры армии воспротивились этому и убедили его принять титул императора. Кантакузин облачился в пурпур и был коронован в Дидимотике. Большая часть Фракии и Македонии объявили себя в его пользу.
Новый цезарь должен был подумать об организации своей армии и выборе генералов, преданных его интересам. Как только он увидел, что от его партии отпадает город Адрианополь, на который он сильно рассчитывал, он предложил мир своим врагам. Но его послы были плохо приняты в Константинополе, и императрица, которая, казалось, всё ещё склонялась к примирению, была вынуждена начать войну по настоянию Апокавка. Он отправил афонских монахов просить мира во второй раз; патриарх отверг их предложения. В то же время двор проявил величайшую активность: Апокавк короновал юного императора, который даровал ему титул великого герцога. Некоторые из родственников Кантакузина были затем казнены, а его мать, брошенная в тюрьму, умерла там от жестокого обращения. В своём решении продолжать войну с величайшей энергией узурпатор искал все средства для обеспечения своей мести, призывал могущественную помощь и заключил союз с сербским князем и каном Лидии, Урнур-Бегом, которого рыцари Родоса, истинные защитники христианского имени, отозвали, угрожая Смирне, его столице (1343).
Еще один турецкий союзник, более могущественный, чем верный Урнур-Бей, настойчиво попросил руки дочери Кантакузина. Это был Орхан, чьей помощи искала мать-императрица Анна Савойская, и который обязался выполнять по отношению к регенту, если тот согласится принять его в качестве зятя, все обязанности подданного и сына. Честолюбивый Кантакузин отдал свою дочь Феодору в жены князю османов. Тот отправил на тридцати кораблях главных лиц своего двора, сопровождаемых многочисленной кавалерией, чтобы привезти свою императорскую невесту. Они прибыли к лагерю у Селимврии, куда продвинулся отец Феодоры, окруженный своими высокопоставленными сановниками и семьей. На равнине перед этим городом был установлен великолепный шатер, под которым императрица Ирина провела ночь со своими тремя дочерьми. Утром молодая невеста, следуя древнему церемониалу византийского двора, заняла место на помосте, украшенном богатейшими драпировками. Войска стояли под оружием, император был на коне, и все окружали его в ожидании. По данному сигналу со всех сторон одновременно упали занавеси из шелка, вышитые золотом, окружавшие трон, и невеста появилась в окружении множества слуг, несущих свадебные факелы. Тотчас воздух наполнился звуками труб, флейт и других инструментов; затем гармоничные хоры воспели в своих песнях счастье и добродетели дочери цезарей. В течение нескольких дней продолжались пышные пиры, на которых присутствовали турки и греки, смешавшись вместе (1346).
Примерно в то же время судьба избавила Кантакузина от самого упорного из его врагов. Апокавк приказал бросить в тюрьму всех, кто вызывал у него подозрения. Однажды, когда он отправился их навестить, несколько заключенных, разорвав свои цепи, убили его и освободили своих несчастных товарищей.
Обнаружив несколько заговоров против своей жизни, Кантакузин понял, что необходимо нанести решительный удар и завершить узурпацию, захватив столицу. Он договорился со своими многочисленными сторонниками в городе о дне, когда они откроют ему Золотые ворота. Он подошел к ним во главе своих войск и вошел без сопротивления (1347). Он отправил предложение о соглашении императрице, которая призывала на помощь генуэзцев из Пера. Сначала она отказалась что-либо слушать, но, будучи вынужденной в своем дворце и уступив уговорам своего пятнадцатилетнего сына, согласилась на предложения победителя. Было решено, что с обеих сторон будет объявлена всеобщая амнистия; что два императора будут править вместе, причем младший в течение десяти лет будет следовать советам старшего. Умеренность Кантакузина казалась всем невероятной, настолько она была восхитительна: он сам спешил похвастаться ею. «Кто мог подумать, – говорил он, – что после стольких страданий от своих врагов он не воспользуется своей победой, чтобы уничтожить их, и пригласит побежденных к переговорам на равных, когда мог бы уничтожить их в одно мгновение? Такой образ действий превосходил человеческую природу».5
Кантакузин продолжал оставаться самым умеренным из узурпаторов. Несмотря на свою почтительную внешность, его вид пугал императрицу; поэтому он использовал все средства, чтобы успокоить ее. Он даже предложил брак своей дочери Елены с молодым императором; предложение было принято, и примирение казалось искренним. Кантакузин потребовал, чтобы все, кто следовал за тем или иным знаменем, принесли присягу верности обоим императорам; монах с Афона Исидор заменил константинопольского патриарха, который был смещен.
Однако успехи сербского князя и разорение Македонии встревожили Кантакузина; он созвал собрание всех сословий государства, чтобы получить финансовую помощь. В то же время его старший сын Матфей, поддавшись пагубным советам, захватил Дидимотику и Адрианополь, чтобы создать собственное княжество. К счастью, его мать заставила его отказаться от этого отвратительного плана. Радость, вызванная этим актом послушания, вскоре была омрачена болезнью, которая опустошила почти весь известный мир и унесла жизнь его младшего сына (1348).
В том же году Орхан в сопровождении всей своей семьи и двора посетил своего тестя в Скутари, и в течение нескольких дней два князя с видимой сердечностью делили удовольствия охоты и радости пиров.
Кантакузин и Орхан сидели за одним столом; четыре сына главы османов разместились за другим, неподалеку; а вокруг главные турки и греки сидели на коврах, расстеленных на земле. Орхан оставался в лагере и у флота, пока Кантакузин отправился в Константинополь со своей дочерью Феодорой, которая провела три дня в обществе своей матери и сестер. Зять императора вернулся в Вифинию с семьей, нагруженной подарками. Но Орхан, чья дружба была подчинена интересам его политики и религии, не колебался в войне с генуэзцами присоединиться к врагам своего тестя.
Позже, с помощью паши Сулеймана, старшего сына Орхана, Кантакузин отвоевал у сербского деспота Салоники (1351), Беррею и большую часть Македонии. Молодой император хотел заключить союз с побежденным князем, надеясь остаться единственным властелином трона; узурпатор воспротивился этому и на время сдержал это честолюбие с помощью вдовы Андроника III. Но когда сербские и болгарские князья, а также республика Венеция поддержали интересы Иоанна Палеолога, он решил снова обратиться к османам, которым эти времена смут и гражданской войны наконец позволили прочно утвердиться в Европе.
Вернувшись в Азию, Сулейман однажды вечером сидел на восточном берегу Пропонтиды; свет луны протянул перед ним на море руины древнего Кизика, колонии милетцев, знаменитой в истории греков и римлян, которая после долгих превратностей в борьбе великих держав мира снова стала столицей провинции Геллеспонт. Пока он, устремив взгляд на волны, в которых отражались мраморные портики и аллеи колонн, величественные остатки храмов Кибелы, Прозерпины и Юпитера, и в которых играли облака неба, размышлял о величии смерти; ему показалось, что из бездны поднимаются дворцы и храмы, а под водой плывут флоты. Среди шума моря он услышал таинственные голоса и увидел луну, стоящую позади него на востоке, соединяющую Европу и Азию серебряной лентой, парящей над бездной. Это было то же светило, которое когда-то вышло из груди Эдебалы и погрузилось в грудь Османа. Этот сон предсказал его предку власть над миром; это воспоминание воспламенило его мужество, и с тех пор он решил объединить Европу и Азию завоеваниями.
После консультаций с опытными советниками, поседевшими на службе его семьи, и долгих размышлений о том, как пересечь пролив незамеченным, он рискнул переправиться с другом на лодке и провел разведку в районе Цымпа, в шести километрах выше Галлиполи. Там он захватил грека, которого увез в Мизию, чтобы сделать своим проводником. Узнав от этого предателя-грека о состоянии заброшенности замка, Сулейман задумал захватить его врасплох. На следующую ночь он поднялся на грубые лодки с пятьюдесятью девятью решительными солдатами и захватил форт Цымпа тем легче, что жители из-за жатвы разошлись по окрестностям. В течение нескольких дней там были размещены три тысячи человек, которые следовали за ним (1356).
Пока Цимпа переходила под власть османов, Кантакузин умолял своего зятя о помощи против Иоанна Палеолога. Орхан, уступив его мольбам, отправил к нему Сулеймана во главе десяти тысяч турецких всадников, которых греческие корабли высадили в устье Марицы (Гебра). Мусульманские войска, чью ярость невозможно было сдержать, учинили большие беспорядки; Сулейман разгромил болгар и сербских союзников Иоанна Палеолога и вернулся в Азию, нагруженный ценными трофеями. Тогда Кантакузин потребовал от Орхана возвращения крепости Цимпа за десять тысяч дукатов. Император уже отправил золото, и Сулейман приказал одному из своих офицеров передать замок, когда стены и укрепления большинства городов Фракии были разрушены ужасным землетрясением. Дома в Галлиполи рухнули, а проломы в стенах открыли легкий доступ солдатам Сулеймана, чьи планы грабежа и завоевания, казалось, были поддержаны землетрясением (1357). В то же время другие крепости, такие как Коноур, Булаир, Малгара, известная своим медом, Кипсала, в трех днях пути от Галлиполи, и Родосто, где в древности правил фракийский князь Рес, были переданы новым колониям турок. Хотя Кантакузин жаловался на нарушение договоров, он предложил сорок тысяч дукатов за выкуп своих крепостей, особенно Галлиполи, ключа к Геллеспонту, который он не хотел оставлять туркам. Орхан пообещал убедить своего сына вернуть эти города, но постоянно уклонялся от окончательного решения. В том же году отречение Кантакузена гарантировало османам владение их первой завоеванной территорией в Европе.
Иоанн Палеолог, к которому вскоре вернулась любовь его подданных, действительно сумел править единолично. Несмотря на все свои усилия, он не смог предотвратить провозглашение своего тестем императором его сына Матфея; с помощью генуэзского дворянина, которому он обещал выдать свою сестру замуж и который предоставил ему две галеры с двумя тысячами пятистами человек, он вошел в Константинополь. Прибытие молодого императора вызвало смятение среди жителей, разрывающихся между симпатией к нему и страхом перед Кантакузином, который имел в своем распоряжении регулярные войска и каталонцев. Однако, устав от гражданской войны, узурпатор предложил мир и хотел, чтобы его турки защищали столицу от алчности каталонцев, требовавших войны и добычи. Три дня спустя два императора заключили договор о примирении, который установил между ними равенство власти; едва он был подписан, как, к всеобщему удивлению, Кантакузин, отрекшись от короны, снял в самом дворце императорские регалии, постригся в монахи и удалился в монастырь Мангана, где принял имя Иосиф. Императрица Ирина без колебаний последовала примеру своего супруга, приняла постриг под именем Евгении и ушла в монастырь Марфы.
Различные слухи приписывали отход этого загадочного человека насилию со стороны Иоанна Палеолога; но из глубины своей кельи новый монах опроверг их и оправдал своего зятя: «Кантакузин, – сказал он, – оставил трон по своей воле, а не против нее; если бы он хотел сохранить его, никто не смог бы отнять его у него. Палеолог не оскорбил его нарушением клятвы; пусть все знают, что он ничего не сделал, ничего не замышлял, чтобы огорчить своего тестя… Кантакузин приобрел империю против своей воли; будучи сильно потрясен оружием своих сограждан, он пережил различные превратности судьбы; он сопротивлялся всеми силами с духом и сердцем, которых ничто не могло сломить. После победы над всеми своими противниками он был вынужден, по злобе своих же, снова столкнуться с необходимостью гражданской войны; тогда он отчаялся в римлянах, которые больше не обладают древней мудростью и не понимают, что для них хорошо, и отрекся от империи»6.
Из своего уединения, где его беспокойный гений искал покоя, Кантакузин старался поддерживать союз между своим сыном Матфеем и Палеологом, который обещал признать этого сына своим соправителем в империи. Их ненависть, с трудом сдерживаемая некоторое время, в конце концов привела их на поле битвы, на равнины Филиппополя, города во Фракии. Матфей, побеждённый и взятый в плен, был доставлен и заключён на острове Лесбос. Палеолог предложил ему свободу, если он согласится сложить пурпур и занять второстепенное положение. В этих обстоятельствах Кантакузин ненадолго покинул своё уединение, чтобы уговорить сына уступить желанию императора. Чтобы излечить его от страсти к власти, он ярко описал все опасности, окружающие трон, и грозную ответственность тех, кто правит. Несмотря на мольбы отца, Матфей с трудом согласился на формальное отречение.
Отречение Кантакузена, считавшегося единственным человеком, способным своими талантами и мудростью спасти остатки империи, стало несчастьем для государства. Этот искусный узурпатор умел сдерживать или подавлять врагов. Своими последними советами он убеждал соотечественников избегать неосмотрительной войны и сравнивал численность, дисциплину и энтузиазм турок со слабостью греков. Но упрямое тщеславие молодого императора пренебрегло этими мудрыми советами, и уже в первый год его отречения Сулейман переправился через пролив, покорил все города, которые атаковал, захватил Херсонес и вошёл во Фракию, не встретив сопротивления. В разгар своих успехов герой упал с лошади во время военных учений и погиб. Гробница основателя османской власти в Европе, воздвигнутая на берегу Геллеспонта, словно приглашала жителей Азии на завоевательный поход. Старый Орхан вскоре скончался от горя, вызванного внезапной потерей своего великого визиря и любимого сына (1360). Его тридцатипятилетнее правление не было запятнано ни варварством, ни убийствами. Политические институты этого справедливого князя, одновременно храброго воина, заставили историков считать его Нумой османов.
Греки не успели порадоваться смерти своих врагов; они нашли другого, ещё более грозного, в лице Мурада I, сына Орхана и брата Сулеймана. Взойдя на престол в возрасте сорока одного года, Мурад превосходил самых знаменитых королей или военачальников своей быстротой и неутомимой энергией в действиях. Покой был ему ненавистен, и когда врагов не было, он упражнял свою воинственность на охоте. Сразу после своего восшествия он обратил взор на Азию, где ему угрожали, и проявил свою храбрость, покорив Анкиру, мощный город, крупный торговый центр, который природа, казалось, щедро одарила. Установив спокойствие в этом регионе, он решил продолжить завоевания своего брата в Европе. Его искусные лейтенанты почти без сопротивления овладели Небетосом, Чарли, Кечаном и Дидимотикой. Андрианополь, известный своим удачным расположением на слиянии трёх рек, пал в следующем году (1361). Многочисленные преимущества, которыми он пользовался, впоследствии сделали его второй столицей Османской империи. Дориск, Берроя, Филиппополь и множество соседних крепостей, вскоре покорённых, открыли мусульманам путь через Фракию на север.
Непрерывные успехи врагов напугали греческого императора: он запросил мира и получил его. Мурад, следуя примеру своих предшественников, до сих пор избегал участия в общественных молитвах вместе с народом. Муфтий, одновременно священнослужитель и судья, осмелился наказать его, отказавшись от его свидетельства в гражданском деле. Удивлённый этим поступком, Мурад спросил его о причине. «Пусть моё поведение не кажется вам странным, господин, – сказал муфтий. – Как император, ваше слово священно; его нельзя подвергать сомнению: но здесь оно не имеет силы, и правосудие не допускает свидетельства человека, который ещё не объединился в общественных молитвах с телом мусульман». Мурад, глубоко тронутый, смиренно обратился к самому себе; он признал себя виновным и, чтобы искупить свою вину, приказал построить в Андрианополе величественный храм напротив императорского дворца. Это здание до сих пор носит имя своего основателя.7
Примерно в то же время Мурад придал регулярную организацию милиции, созданной его отцом, которая должна была стать ужасом для народов и иногда для самих султанов. Он попросил известного дервиша освятить её, дать ей знамя и имя (1362). Поставленный во главе рядов этой милиции, дервиш протянул рукав своей одежды над головой ближайшего солдата и торжественно произнёс: «Пусть их назовут янычарами (йени чери, или новые солдаты). Пусть их доблесть всегда будет сиять, их меч острым, а рука победоносной! Пусть их копьё всегда будет готово поразить врагов! И куда бы они ни пошли, пусть вернутся с лицом, сияющим здоровьем!»
Мир длился недолго; король Венгрии Людовик Великий и правители Сербии, Боснии и Валахии объединились, чтобы вместе атаковать завоевателей, пришедших из Азии и уже угрожавших их границам. Они продвинулись форсированными маршами до Марицы, в двух днях пути от Андрианополя. Победа османов была полной, и равнина до сих пор называется Сирф Виндруги, или поражение сербов (1363). Эта неудача воинственных племён Дуная вызвала сильнейшую тревогу у Иоанна Палеолога. Император, бледное отражение величия Константина Великого, покинул свою столицу и отправился на Запад; он просил у христианских князей помощи людьми и деньгами; он заявлял о своей покорности Римской церкви, отрёкся от схизмы в Витербо в руках папы Урбана V и обещал вернуть всех своих подданных в лоно латинской церкви. Но он не привёз ни одного солдата на Восток. Лишённый всякой поддержки после смерти почтенного понтифика, он отправился в Венецию, где оставался некоторое время: в момент отплытия купцы этого города, которые одолжили ему значительную сумму, задержали его и согласились освободить августейшего пленника только после того, как его сын Мануил продал всё, что у него было.8
Амурат шел от успеха к успеху; Урош, деспот Сербии, погиб в битве против своих дворян (1367), и Булко Лазарь провозгласил себя на его место, но смог удержать только северную Сербию; Вукасович, занявший южную часть, был застигнут врасплох турками ночью, и Амурат овладел Акарнанией и Сербской Македонией. Он наложил дань на греческого императора и отнял у него Гюстендил – ранее названный Ульпиана в честь Траяна, его основателя – город, важный своими банями, памятниками, золотом и серебром, которые находили в окрестностях (1371); с такой же активностью он подчинил болгарского царя Сишмана, на дочери которого женился, и Булко Лазаря, который признал себя данником.
Хозяин греков и уже внушавший страх на берегах Дуная, Амурат решил, что может отдохнуть после долгих трудов. Он провел зиму в своей новой резиденции, Адрианополе, центре своего европейского правления, который он предпочитал Прусе. В течение шести лет, не омраченных военными походами, он неустанно занимался внутренними делами и уделял особое внимание военной организации. Он разделил земли, данные спахиям, на мелкие феоды (тимары) и крупные феоды (зиаметы), и дал владельцам первых название тимарли. Он учредил войнаков, отряд, состоявший из его христианских подданных, который во время войны выполнял самые унизительные функции. Амурат затем вызвал к себе своего данника, Иоанна Палеолога, чтобы тот сопровождал его в войне против Малой Азии. Император мог видеть, как христианский царь Армении Левон Лузиньян лишился своих владений и был осужден на изгнание; сельджукский эмир Кермиана выдал свою дочь замуж за Баязида, старшего сына грозного предводителя османов, с самой красивой частью Фригии в качестве приданого; князь Писидии Хамид продал шесть своих городов, чтобы сохранить слабый остаток своих владений; наконец, эмир Карамании, разбитый под Иконией, подчинился и согласился платить дань.

