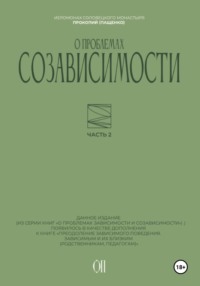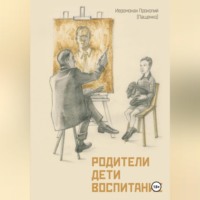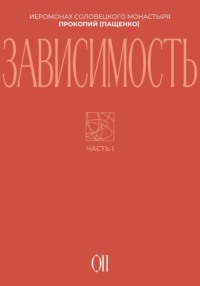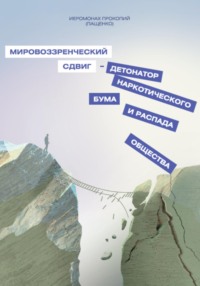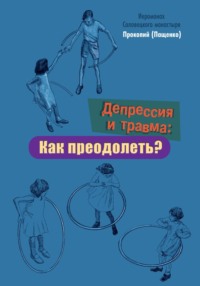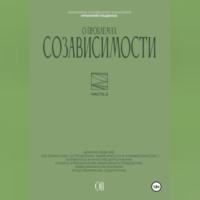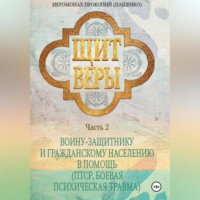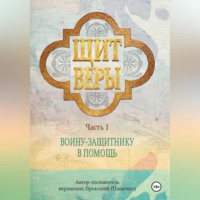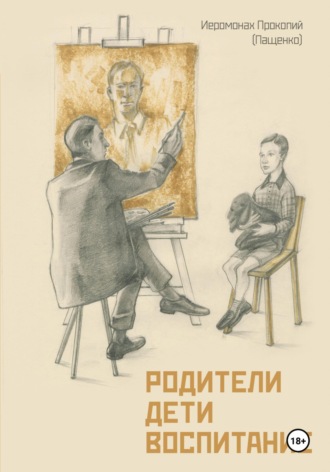
Полная версия
Родители. Дети. Воспитание.
Когда мы внимательно читаем, стараемся сопоставлять прочитанное с личной жизнью, когда учимся делать выводы и проявлять деятельное внимание к ближнему, сострадание, сопереживание, у нас в результате развиваются структуры коры, лобные доли. То есть, развивается способность регулировать деятельность подкорковых структур.
Человек не определяется инстинктами и импульсивными влечениями
Почему-то вопрос о возможности человека регулировать деятельность мозга, связанную с формированием эмоций и мотивов, все более и более обходят стороной. Нередко в литературе человек обнуляется и, по сути, сводится до уровня животного, детерминируемого набором рефлексов.
О том, насколько спорными могут быть взгляды, низводящие человека на уровень животного, определяемого набором рефлексов, мы с паломниками обсуждали в рамках цикла лекций «Остаться человеком: офисы, мегаполисы, концлагеря». В четвертой части этого цикла (одна из основных тем – человек, находящийся под воздействием экстремальных ситуаций) мы рассматривали книгу известного постмодернистского автора[77], утверждающего, что в концлагере Освенцим ставить вопрос о человеческом достоинстве – даже неприлично.
По его мнению, в экстремальной ситуации люди очень быстро приходят в состояние деградации. Так и Фрейд был убежден, что люди в состоянии голода очень быстро утрачивают свои индивидуальные различия и возвращаются к уровню животных инстинктов. И действительно, те, у кого в жизни не было ничего кроме работы, сна и еды, к этому состоянию быстро приходили. Однако люди, которые обладали способность сопереживать, любить, которые были воспитаны в определенной культуре поведения, – даже в концентрационном лагере Освенцим не теряли человеческое лицо.
См. лекции 17.2-19.4 из четвертой части цикла «Остаться человеком: офисы, мегаполисы, концлагеря».
Несмотря на свою известность, автор почему-то не обратил внимания на такие книги, как книги Кристины Живульской «Я пережила Освенцим», Йосефа Якубовича «Освенцим тоже город», «Побег из Освенцима» (книга, написанная нашими военнопленными). Мы также разбирали книгу девушки из еврейской семьи, воспитанную, в том числе, и христианскими мотивами, – Этти Хиллесум «Я никогда и нигде не умру» (в беседах разбирались и иные источники).
Авторы этих книг не скатились к физиологическому уровню существования, не обнулились до уровня «голого существования». У них, применительно к разбираемой теме, оставалась активной система саморегуляции поведения. Они совершали осмысленный выбор, находясь посреди экстремальной ситуации, навязывающей определенный «животный» стиль поведения. И отчасти вследствие сохранения способности совершать разумный выбор, они, можно сказать, и остались живы.
О внутренних условиях, способствующих сохранению личности в экстремальной ситуации см. в виде текста, например, в главах «Регрессия и исчезновение вертикали», «Доминанта жизни. Творческий ответ на травматический опыт» из части 4.1 одноименной статьи «Остаться человеком: офисы, мегаполисы, концлагеря»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2062/.
Если смотреть физиологически, можно сказать, что у этих людей были развиты лобные доли; если брать аспект культуры – это были мыслящие, деятельные личности, стремящиеся к познанию, обладающие, в том числе, какой-то религиозность. Иосиф Якубович был иудеем, Кристина Живульская – католичка, Этти Хиллесум – еврейка с христианскими взглядами. Сейчас мы не разбираем, какая религия истинна. Религия формирует внутреннее состояние, которое человек берет с собой в жизнь вечную. И истина там, где возможно сформировать глубокое состояние внутреннего мира даже посреди скорбей. Некоторые течения могут дать человеку какое-то подобие опоры, но если глубокого мира они создать в человеке не могут, то соответственно человек в жизнь вечную придет с хаосом, и цель, для которой создан человек, не будет реализована…
На данный момент не сравниваются религии между собой. На данный момент комментируется та мысль, что и в Освенциме люди вовсе не обязаны были скатиться до уровня животных, определяемых инстинктами.
Еще несколько лет назад современная наука сводила все к дофамину и серотонину. Если следовать мысли многих авторов, то могло показаться, что кроме нейронных связей ничего не существует, ни души, ни разума. Вспомним эпизод из «Братьев Карамазовых», когда Ракитин в тюрьме объяснял Мите, что на самом деле души нет, а есть в мозгу клеточки, которые задрожат хвостиками, и от этого появляются образы. Митю так это впечатлило, что он расчувствовался: «Как Бога жалко!»[78].
Однако современная наука все же близка христианству. На беседах про Освенцим мы разбирали книгу А.В. Брушлинского, директора НИИ Российской академии психологических наук, «Психология субъекта». В ней он рассматривает тоталитарный строй, понятие, близкое к зависимости. Что же их объединяет? Происходит формирование в человеке моделей поведения, которые он сам никогда не желал, но которые прививаются ему извне. Его книга была написана уже после распада СССР, когда стало возможным вообще говорить о тоталитарном строе. Интересно, что он не писал о методах насилия, о дубинках, а подчеркивал, что суть тоталитарной системы – это убежденность, что человека формирует внешняя среда.
Мысли А.В. Брушлинского применительно к теме зависимого поведения в главе «Справедливо ли полагать, что главной причиной наркомании является генетическая обусловленность и физиология?» из пятой части статьи «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического «бума» и распада общества»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2021/).
На самом деле это не так. Что такое субъект? Брушлинский говорит, что когда человек стоит на высшей ступени своего развития, становится творческой личностью, которая имеет свой путь в истории, все внешние импульсы он пропускает через свою внутреннюю суть, своего рода внутреннюю прослойку, совесть, взгляды, воззрения, и на выходе получаются совсем не очевидные вещи. Комментируя эти мысли, можно привести следующий пример. Человек может родиться и вырасти в семье алкоголиков, но при наличии внутренней силы и разумной деятельности, не стать зависимым. Хотя существует мнение, что путь такого человека предопределен.
Короленко и Дмитриева в другой своей книге «Психосоциальная аддиктология» пишут, что «злоупотребление алкоголем одним из родителей не обязательно приводит к столь негативным последствиям», как «отклонения в психическом и физическом развитии». Они отмечают: «Создается впечатление, что в ряде случаев семейные алкогольные проблемы вызывают у детей реакции протеста, увеличивают их выносливость, устойчивость к стрессам и независимость. Эти положительные черты должны усиливаться поддержкой со стороны. К сожалению, над детьми алкогольных аддиктов часто нависает как дамоклов меч распространённое в обществе предубеждение об их неизбежной фатальной судьбе»[79].
То есть вследствие наличия личностных особенностей у зависимых детей, наоборот, вырабатывается такой иммунитет к алкоголю, что они никогда в своей жизни не притрагиваются к спиртному. Девушка из подобной семьи не обязательно должна выйти замуж за алкоголика, хотя часто утверждается обратное.
Если у человека есть разумная деятельность, то он способен импульсы внешней среды осмыслить, творчески претворить, и на выходе получится совсем иное. Когда внешняя среда действует на человека травмирующе, мы должны ставить вопрос об отсутствии внутреннего ядра личности. Именно оно может помочь ему сопротивляться.
Подробнее о Брушлинском можно почитать на сайте Соловецкого монастыря в статье «Мировоззренческий сдвиг, часть 5», где приводятся некоторые его мысли, с параллельными цитатами слов подвижника 4-го века – преподобного Макария Великого. По-сути, Брушлинский пишет о том, что мы уже знаем из «Добротолюбия» и из наставлений Макария Великого. Преподобный Макарий Великий сравнивал человеческую природу с колесницей, а ум называл возницей колесницы души.
Древние греки говорили, что человека несут два коня – эрос и тимос (мысль о эросе чем-то схожа с теорией Фрейда). Эрос – сила вожделения, тимос – сила напряжения. Но у каждого ли человека будет «сформирован» возница на этой колеснице? Вот в чем вопрос.
Учение о доминанте и зависимое поведение
Концепция преодоления зависимости может строиться в том числе и на учении академика Ухтомского, который описал деятельность мозга через учение о доминанте.
Мысли Ухтомского в адаптированном для современного читателя виде см. в статье «Идеи академика А.А. Ухтомского в адаптированном для современного читателя виде в лекциях и текстах иеромонаха Прокопия (Пащенко)»,
(http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/).
Учение о доминанте применительно к теме зависимого поведения см. в главе «Квинтэссенция цикла лекций "Обращение к полноте" и лекции "Две доминанты"» из третьей части статьи «Обращение к полноте: Становление личности как путь преодоления зависимого поведения»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/1899/).
Однажды он показывал студентам опыт, подключив провода к мозгу собаки, в той области, которая отвечает за движение нижних конечностей. Но когда пошел ток, у собаки не дернулись ноги, как ожидалось, а стал сокращаться кишечник. То есть, возможно, для собаки был более актуальным процесс, связанный с деятельностью ЖКТ (хотя один психиатр, предупреждая, пишет, что попытки проникнуть в мир животных – это не более, чем гипотеза).
Таким образом, Ухтомский сделал открытие доминанты: когда у нас есть какой-то внутренний очаг возбуждения, то текущие импульсы переадресуются к этому очагу. Это понимание важно, чтобы победить патологическую доминанту.
Что такое патологическая доминанта? Допустим, у человека появился очаг в коре головного мозга – выпить! Он выпил раз, выпил два, и этот очаг возбудимости становится всё активнее и активнее, и на каком-то этапе, когда он приходит в действие, все входящие в сознание импульсы, переадресуются к данному очагу. Например, жена задержалась с работы, самым логичным выводом кажется – употребить. Ребенок получил двойку – на ум не приходит с ним позаниматься, а опять кажется логичным – напиться.
Один алкоголик даже писал про своего друга, когда он попал в аварию, перевернулся на машине, но остался жив, то первое, что пришло ему на ум, когда он понял, что уцелел, – напиться!
Из учения о доминанте можно вывести массу комментариев на тему зависимого поведения. Когда человек активно муссирует проблему исцеления от зависимости напрямую (убеждает себя, что он не должен пить), то присутствующие в сознании образы зависимости начинают подогреваться (страсти преодолевается не столько через прямую борьбу с ними, сколько обращением к противоположной добродетели, о чем см. в упомянутой главе «Квинтэссенция…» из третьей части статьи «Обращение к полноте…»).
Одна женщина рассказывала, что по каким-то личным убеждениям она решила прекратить поститься и принимать участие в таинствах. Это личное дело каждого, но, как сказано в Священном Писании (если перефразировать), когда ты не раб Божий, то ты раб греха.
Она посчитала, что пост для нее – неудобно, что она будет более комфортно себя чувствовать, если вообще не будет поститься. И у нее тут же появилась зависимость от человека. До этого она была свободна, потому что пост давал ей возможность сдерживать свои неуправляемые состояния. Она стала углубляться в изучение психологии и, чем больше читала, как победить этот процесс, тем больше погружалась в это состояние, так как этот человек был постоянно в центре ее сознания.
По мысли академика Ухтомского, когда мы штурмуем паталогическую доминанту в лоб, то такая деятельность может привести ее к усилению. Поэтому целесообразнее пустить другую доминанту, и когда она укрепится, то первая, патологическая, затормозится сама собой. И это второе свойство доминанты: когда она приходит в движение, то прочие отделы тормозятся.
Мозг пластичен и может перестраиваться
Соответственно, если человек был гневливым, а потом христианским подвигом воспитал любовь, те же самые ситуации, которые раньше приводили его в ярость, теперь его уже не трогают. Это происходит не потому, что он специально об этом размышляет или держит себя постоянно в состоянии взведенного курка. Если человек, который пил или употреблял наркотики, формирует другую доминанту, то он становится здоровым.
См. главу «О забывании наркоманической эмоции» из третьей части статьи «Обращение к полноте: Становление личности как путь преодоления зависимого поведения»;
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/1899/).
Не сводя всего человека к деятельности мозга, можно отметить ту мысль, что мозг может реструктурироваться. Об этом свидетельствует известная книга Нормана Дойджа «Пластичность мозга», а также книга Марка Льюиса «Зависимость не болезнь». Человек становится иным, то есть – не тем, кем был раньше, прежний опыт перестает его определять, если произошла реструктуризация. И христианский опыт показывает, что разбойники, блудники, блудницы – перерождались, становились подлинно иными.
Об идеях Нормана Дойджа в контексте темы преодоления зависимого поведения см. в главе «Справедливо ли полагать, что главной причиной наркомании является генетическая обусловленность и физиология?» из упоминавшейся 5-й части статьи «Обращение к полноте…».
О некоторых Марка Льюиса Дойджа в контексте темы преодоления зависимого поведения см. в постскриптуме к статье «Профилактика наркомании, исходя из понимания действия наркотической тяги»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2114/.
Мозг пластичен, и мы способны меняться. Ранее существовавшее ошибочное мнение о некой детерминированности, когда изменения происходят раз и навсегда, опровергается опытом. Известная книга Роберта Кигана и Лайзы Лейхи «Неприятие перемен» свидетельствует, что многие нейробиологи США на полном серьезе считали, что после 20 лет нейропластические изменения невозможны. Эта книга по сути о христианстве. Команда Роберта Кигана приезжала в компании, где наступал системный сбой, потому что люди вели себя как эгоисты. Команда проводила занятия с работниками компаний, которым в течение нескольких месяцев объясняли то, что христиане усваивают с младенчества: ты не один на этой планете! И дела в компании менялись, у людей начинался процесс развития.
О книге «Неприятие перемен» в отношении зависимого поведения см. в главе «От страдания к развитию и выходу из скорлупы (подробнее – о понимании "на кончиках пальцев")» из 2-й части статьи «Преодоление зависимого поведения»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2068/.
Возвращаясь к Ухтомскому, когда у человека формируется доминанта, то, если она патологическая, любая информация будет поводом «напиться». Если же доминанта положительная (в центре «Неугасимая надежда» проходила лекция под названием «Две доминанты»), то те же самые предпосылки, которые раньше призывали человека принять наркотики и напиться, будут призывать к совершенно обратным вещам. Принцип доминанты можно понять по аналогии с рукопашным боем. Так, например, в книге «Боксеры» описывался мальчик Кирилл, который стал потом чемпионом по боксу. Его жестоко избивал папа-алкоголик, и у него сформировался защитный рефлекс – когда на него замахивались, он сразу сжимался, уходил в глухую защиту, невероятно быстро сворачивался в калачик. То есть он сразу реагировал на удар, когда замаха как такового еще не было.
Когда он вырос, то пошел в секцию бокса, и тренер заметил, что, хотя первая реакция Кирилла на готовящийся удар была защитная, но он умел чувствовать расстояние и время. Перестроив же эту первую реакцию на замах, можно было уже вокруг этого стержня выстраивать атакующие элементы. И он сумел сделать из Кирилла чемпиона, реконструировав имеющийся опыт и выстроив новые реакции.
Подробнее см. в главе «Связь с Христом, дополнительный афферентный комплекс и акцептор действия» из третьей части «Преодоление травматического опыта: христианские и психологические аспекты»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2044/.
Разрушительные импульсы «проходят», если нет организующего ядра личности
Поверхностное изучение науки не позволяет людям понять, что положительные изменения возможны. Например, на волне публикаций о деятельности суицидальных сайтов («Синие киты»), очень много писалось про использование жетонных моделей Скиннера (американский психиатр, который экспериментировал на заключенных, используя технологии разрушения личности; слом психики человека, как показано в фильме «Заводной апельсин», – его методика). То есть человеку кураторы сайтов сначала пишут, чтобы он поднялся на крышу… потом свесил ноги… потом встал на краю. То есть каждый раз ему усложняют задание, подводя к идее самоубийства.
Но эти методы работают только тогда, когда у человека нет ни мировоззрения, ни культуры, ни любви… И, значит, речь не о Скиннере, а о полной внутренней опустошенности людей, которые полностью открыты для воздействия.
О сопротивляемости суицидальным импульсам вследствие наличия организующего ядра личности см. в статье «О детских суицидах, вообще, и о суицидальных группах "Синие киты", в частности»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/2101/.
О феномене «открытой личности» применительно к теме преодоления зависимого поведения см. в главе «"Открытая личность" и заражение вирусом идеи» из четвертой части статьи «Мировоззренческий сдвиг – детонатор наркотического бума и распада общества»,
http://solovki-monastyr.ru/abba-page/solovki_page/1416/.
То, что мы сейчас будем разбирать, можно назвать культурой, можно назвать духовностью, можно, очасти и осторожно, сопоставить с лобными долями (хотя человек и не определяется физиологией). Многие ученые всё-таки считают, что сознание не есть мозг. Мозг – это одно, сознание – нечто другое, и эти две вещи нельзя отождествлять. Человека нельзя свести к биологии[80].
Многие серьезные ученые не отрицают той мысли, что человек превосходит то, что можно о нем сказать, исходя их научных данных. Бруно Беттельхейм, убежденный психоаналитик, оказавшись в концлагере, понял, что не может объяснить ни поведение надзирателей, ни поведение заключенных[81].
Почему одни ломаются, а другие – выживают вопреки все негативным влияниям? Читая мемуары людей, оказавшихся в экстремальных ситуациях, понимаешь, что в реальной экстремальной обстановке не все определяется научными данными, правда жизни не всегда схватывается, как это принято говорить, научным дискурсом.
Научный дискурс иногда способен схватить лишь нижние этажи человеческой личности, и проблема начинается тогда, когда описания этих этажей выдается за описание личности. Но помимо нижних этажей, есть еще и высшие. И в этом смысле с христианской картиной мира отчасти можно сопоставить идею Льва Выготского насчет того, что нам нужна не «глубинна психология», а «вершинная».
Иммунитет к негативным воздействиям
Исходя из сказанного, мы ставим вопрос о необходимости помочь ребенку сформировать то, что даст ему некий иммунитет на всю жизнь, поможет сопротивляться негативным воздействиям. Чтобы ответить на вопрос, как формируется иммунитет, можно посмотреть, как происходит сминание человеческой личности зависимым поведением.
Существует четыре стадии захвата сознания паттерном зависимого поведения. Опишем эти стадии.
Система представлений и проникновение разрушительного импульса в сознание
Условно говоря, есть мозг, кора и подкорковые структуры. И первое искушение – это поступающий импульс извне, импульс в виде любой информации. Это важно учитывать и необходимо понимать и родителям, и педагогам, когда мы строим процесс воспитания.
Подавляющее большинство школьников функционально безграмотны, они не способны понять смысл прочитанного текста (на момент 2003 года «способность понимать сложные тексты, критически оценивать представленную информацию, формулировать гипотезы и выводы продемонстрировали только 2 % российских учащихся»[82]).
То есть, имея дело с каким-то сообщением, они не могут определить, является ли оно манипуляцией или нет, ложно оно или подлинно, стоит ли ему следовать или нет. Происходит поверхностное восприятие информации.
Конечно, на бумаге в отношении педагогического процесса ставится задача воспитать творческую, думающую личность, и где-то это еще осталось. Но как же ее воспитывать? В отношении учителей напрашивается аналогия, заимствованная из жизни одной компании: был выпущен приказ об улыбке, все должны улыбаться, кто не улыбается, будет уволен (то есть речь идет не о создании рабочей атмосферы, находясь в которой работникам хотелось бы улыбаться, а атмосферы страха, в которой улыбаться хочется все меньше и меньше).
Требование, чтобы учителя способствовали росту творческой личности, ложится на учителя таким объемом документации и проверочных работ, что на воспитание этой самой личности не остается ни сил, ни времени.
Как на уровне нашего общения с детьми это можно претворить практически? Время белого и черного уже прошло. В советские годы такой метод работал: человек в идеале вообще не должен был знать, что такое зло. Хотя людям не особо давали развернуться в плане их личной жизни, но и не пускали в какие-то деструктивные секты. Сейчас же человек, который был воспитан только в таком режиме, легко может потеряться.
Человеку давались готовые представления: это – черное, а это – белое. Но в эпоху постмодерна такая стратегия может дать сбой, потому что в эпоху постмодерна зло искусно выдает себя за добро.
Это стандартная история, когда мальчики-пономари, белокурые ангелочки, в 12 лет снимают стихарь, стригут свои ангельские локоны и пускаются во все тяжкие. Один такой пономарь, когда его спросили: «Что ты выбираешь: два миллиона долларов или жизнь без наркотиков?» – ответил: «А зачем мне 2 миллиона, если у меня не будет наркотиков».
Конечно, если у человека была вера в детстве, то после 25 что-то внутри зовет обратно, он не может уйти с упоением во все тяжкие. Ему некомфортно «на дне». Тем же, у кого такого периода не было, легче проваливаться в бездну.
О чем идет речь? Если родители используют такой метод воспитания (своего рода нарратив), когда дети выполняют роль слушателя, пассивно поглощающего информацию, пусть даже и полезную (жития святых и прочее), то такие дети не могут перекинуть мостик от получаемой информации к реальной жизни.
Конечно, любовь к Богу, любовь к ближнему – это основные заповеди, но люди, живущие в Москве, чтобы исполнить эти заповеди, должны пробиться сквозь толщу повседневной жизни, одновременно не дав повод коллегам себя куда-то «задвинуть». То есть реализация заповедей и идеалов требует очень большого опыта, знаний, достигаемых путем проб и ошибок. И здесь человеку как воздух необходим навык рассуждения, то, что мы называем функциональной грамотностью. Умение применить текст к собственной жизни.
Возможно, следует с детьми читать даже книги где-то и неоднозначные. Речь вовсе не о том, что дети должны «познать все» (зрелище трупов и обнаженных тел), как сейчас модно говорить. Так, наоборот, убивается в человеке самая сердцевина невинности (которая со временем, укрепившись, может стать иммунитетом, препятствующим сползанию человека во все тяжкие), тем более в самую нежную пору жизни. Речь идет, например, о том, чтобы прочитать рассказ, где возникла не совсем однозначная ситуация: вроде мальчик и помог другу, но имел свою корыстную цель. В таком случае стоит задаться вопросом: правильно ли он на самом деле поступил? Это заставит ребенка думать.
Эта идея была переработана одной женщиной-профессором, которая предложила несколько иную версию подхода. По ее наблюдениям, детям трудно пересказать книгу целиком, поэтому родители могут начать сами пересказывать какой-то эпизод. Пересказывая, они допускают неточность в описании сюжета. Ребенок схватывает эту неточность, говорит, что «все было не так», и начинает объяснять, «как все было на самом деле».
Такой эксперимент мы еще не ставили, но было бы интересно, если бы родители дали обратную связь. Хорошо использовать практику семейного чтения, чтобы вовлечь ребенка. И детям, кстати, это очень нравится. Это поможет, в том числе, и формировать функциональную грамотность.
Сейчас многие жалуются, что дети не любят читать. Конечно, они сразу не способны постичь большие объемы, если не могут понять даже элементарный текст. А если, например, сослаться на нехватку времени и предложить прочитать книгу и рассказать, тогда, возможно, появится ответственность, стимул запомнить. Только здесь не должно быть фальши, а реальный интерес к совместному изучению, желание дать правильную оценку поступку, ситуации, что приведет ребенка к необходимости думать.