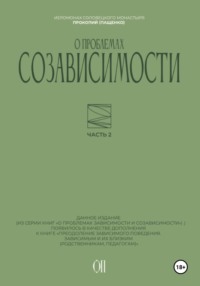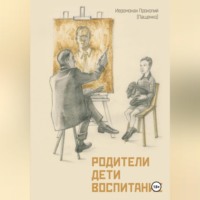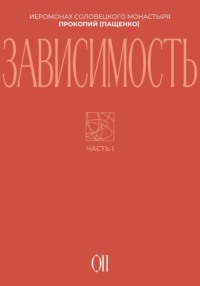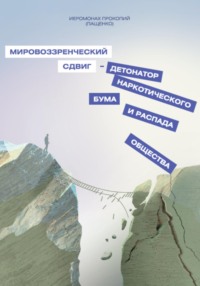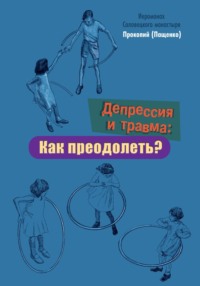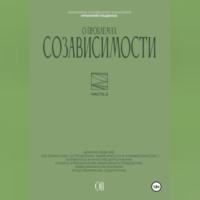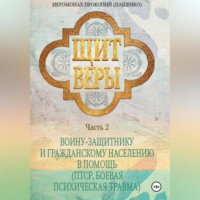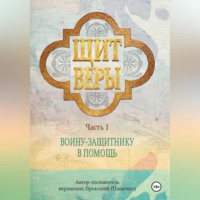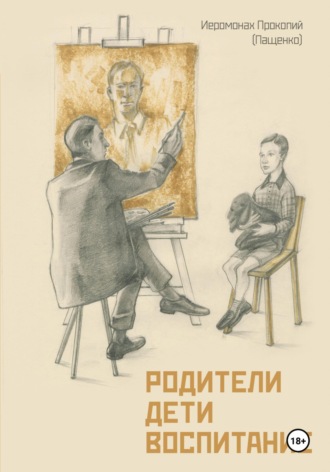
Полная версия
Родители. Дети. Воспитание.
У монахини было стремление поступать по любви и помогать братьям. Но когда кто-то делал ей больно – раз, два, три раза, то у нее появлялась защитная стенка. Неправда наносила ей раны, и она иногда не хотела говорить с человеком и убегала от него. Но она училась прощать людей и писала об этом так: «нужны годы, чтобы приобрести ровное отношение ко всем людям»[58].
Описываемый подход, предполагающий веру в наличие в человеке добра, может быть обогащен словами известнейшего психиатра Виктора Франкла. В своей знаменитой речи 1972 года он давал понять, что, общаясь с людьми, необходимо предполагать в них наличие лучшего. Поясняя свою мысль, он привел аналогию из области авиаперелетов. Если пилот, летящий в какой-то пункт, полетит к нему напрямую, не сделав поправку на ветер, он не попадет, куда нужно. Ветер за время полета снесет его в сторону. Поэтому, чтобы долететь в точку назначения, он должен лететь как бы немного в сторону. И тогда, когда ветер снесет его, он окажется там, куда стремился[59].
Слова Виктора Франкла перекликаются с тем подходом к людям, который был свойственен старцам. Мысли психиатра могут быть весомы для тех людей, для которых старцы не являются авторитетом. Тем же, кто с благоговением прислушивается к опыту старцев, все сказанное может представлено в образе известнейшего старца – архимандрита Иоанна (Крестьянкина).
Отец Иоанн с детства рос в любви. Но вот превратностью обстоятельств он попал в холодный мир эгоизма, в котором жили люди, не помнившие Бога. Такое положение дел он осмыслил как любовь Бога. Обстоятельства призывали его человеческую любовь расшириться и разгореться, чтобы она могла «согревать замерзающий в нелюбви мир».
И надо сказать, когда в годы гонений на веру отец Иоанн был репрессирован, «тюремная шпана относилась к нему сочувственно. Называли его кратко: "Батя"»[60]. Такое отношение заключенных к отцу Иоанну можно сопоставить с характером его отношения к людям вообще.
Став насельником Псково-Печерского монастыря и вступая в общение с молодыми монахами, он нередко терпел от них даже выговоры. Им представлялось, что отец Иоанн тут не то сказал и там не так сделал. «Юному монаху пока и в голову не приходило, что задачи высшей духовной науки ему еще решать рановато, а надо осваивать азы начальной монашеской школы – смотреть, слушать, думать и терпеть, забывая то, чему научился в миру. А пока терпеть приходилось учителю. Потихоньку, неприметно он смирял бунтарский дух силой любви, силой слова, но главное – учил примером своей жизни».
Примечательно, что обстановка его родного дома ассоциируется с теми переживаниями, о которых писала Евфросиния Керсновская. «Свое раннее детство отец Иоанн вспоминал и благословлял особенно. Оно дало ему и первые уроки послушания, и понятие о грехе, когда детские укоры совести за содеянное надолго лишали его радостей, а укоризненный взгляд мамочки вызывал обильные слезы раскаяния. И как следствие его духовной чуткости, появилось в нем умение видеть и слушать, умение не огорчить. Чуткость же породила в сердце мальчика и благоговение, которое в нем, уже повзрослевшем, разлилось на все сущее и стало, как и любовь, сутью его натуры».
С годами, получив от Бога дар просвещения, он зрел в человеке не суетливость и мелочность ничтожных интересов. Не борьбу самолюбия и тщеславия. Он «всматривался в волю Божию об этом человеке и видел его душу, в какой мере она способна откликнуться на зов Господа». Опыт общения с разными людьми помогла отцу Иоанну «прозревал человека до той глубины, где хранился замысел Божий о нем. Безошибочно и ненавязчиво, не вмешиваясь своей волей в Богом данную личность, он помогал найти человеку ту единственную стезю, которая определена ему волей Божией».
Осуждение и неосуждение
Но чтобы признать возможность преображения за человеком и чтобы увидеть в нем потенциальное добро, необходимо суметь не осудить его. «Желающие осуждать, – как объяснял архимандрит Тихон (Агриков), – никогда не найдут души ближнего. Для себялюбивых очей не в меру строгого судьи осуждаемая душа навсегда останется непроницаемыми потемками». Не поймет ближнего тот, кто не любит его. Тот же, кто любит ближнего, читает душу его.
Что значит – осудить человека? По объяснению преподобного аввы Дорофея необходимо отличать осуждение от порицания. Порицать – значит сказать о ком-то, что он солгал, например. Осуждать – значит сказать, что такой-то – лгун. В последнем случае говорящий произносит «приговор о всей жизни». Пример осуждения дается в притче о мытаре и фарисее. Когда фарисей, стоящий в храме, говорил о себе, что он не хищник и не прелюбодей, он упомянул и мытаря, находившимся в том же храме. Упомянул и сказал, что он, фарисей, не такой, каков этот мытарь. В этих словах «осудил самое лицо, самое расположение души его и, кратко сказать, всю жизнь его»[61].
То есть осуждающий как бы характеризует всю личность другого человека одним только словом. А ведь личность – многогранна. Человек может желать исправления, может воздыхать о своей греховной жизни и оплакивать свои падения. И все многообразие личности, все ее стремления к исправлению осуждающий перечеркивает одним словом – словно поставив клеймо.
Христос же, как писал архимандрит Тихон (Агриков) ни разу не осудил личности согрешившего, а осуждал лишь греховную настроенность (в терминологии преподобного аввы Дорофея при таком подходе не производится «приговор всей жизни»). Говоря блуднице «Иди и впредь не греши» (Ин. 8,11), Господь «осудил грех, но не человека». По мнению отца Тихона, пастырь (хотя отец Тихон пишет свои наставления для пастырей, но некоторые его наставления могут быть приняты и родителями, и педагогами, так как они носят универсальный характер) должен воздерживаться от осуждения, так как сокровенные мотивы человека ему неведомы. Приговор относительно павших может быть смягчен Господом в итоге, в результате и с учетом воспитания, полученного человеком образования и т. п. Нередко в недрах грешных душ Господу виднеются залоги покаяния и чистоты.
Комментируя слова отца Тихона на счет полученных воспитания и образования, можно привести историю о двух девочках, рассказанную упомянутым преподобным аввой Дорофеем. В давние времена, когда были невольничьи рынки (а работорговля, казалась бы преодоленная цивилизацией, с отказом от христианских ценностей возвращается), работорговцы продавали двух девочек. Одну из них взяла благочестивая женщина, чтобы воспитать девочку таким образом, что та «вовсе не знала пороков мира сего». Другую же девочку взяла женщина развратная, настоятельница публичного дома. «Можно ли сказать, – задает риторический вопрос преподобный авва, – что Бог равно взыщет как с одной, так и с другой [девочки]?». «Если обе впадут в блуд или в иной грех, можно ли сказать, что обе они подвергнутся одному суду, хотя и обе впали в одно и то же согрешение?»[62].
То, как указанные принципы «спускаются» в толщу практической жизни, можно проследить на основании заметок, которые Борис Солоневич (брат упомянутого Ивана Солоневича) оставил относительно беспризорников в своей книге «Молодежь и ОГПУ». В книге описывается жизненный путь Бориса, попавшего в вихрь событий, пронесшихся по России после революции 1917 года. Борис был известным скаутом, одним из руководителей организации скаутов. Согласно формулировке одного из скаутов (Смольянинова), «скаутинг это – христианство в действии. Это – учение Христа, влитое в рамки понимания и деятельности детей…»[63].
В рамках своей деятельности, развиваемой после революции, скауты стремились каким-то образом социализировать беспризорников. Беспризорников появилось огромное количество вследствие гражданской войны, голода и массовых репрессий. В Крыму они вели дикий образ жизни, обитая в труднодоступной местности.
И вот Борис Солоневич вместе со своими единомышленниками отправился на лодке к ним. Он предложил им отправиться в лодочной путешествие, заодно – поесть и поиграть. Беспризорники недоверчиво отнеслись к предложению, но разговоры о возможной еде побудили некоторых согласиться на поездку.
Когда вся команда прибыла на пляж, началась культурно-оздоровительно-спортивная программа. «Начались игры и состязания. Могучий инстинкт игры, который не был заглушен даже годами голодной беспризорной жизни, овладел детьми. Веселый смех огласил морской берег. В азарте игр и состязаний забылись все тревоги настоящего и мрачные тона будущего… Оказалось, что этим маленьким дикарям неизвестны даже самые простые игры: и примитивные пятнашки, эстафетка или лисичка вызывали взрывы смеха и оживления».
Между ребятами и скаутами образовался контакт, и у костра Борис стал нащупывать путь к душам ребят. Он рассказывал им о святом Георгии Победоносце, о подвигах рыцарей в борьбе со злом, о стремлении вперед к свету и добру. Истории великий людей сменялись объяснениями правил гигиены, объяснения скаутских законов – загадыванием загадок.
Сгрудившись у костра, ребята жадно слушали рассказы о другой, лучшей и более светлой жизни, чем вагоны и водосточные трубы. Засмеются – и вновь глаза их становятся внимательны… «Ведь что ни говори – это еще дети под грубой коркой преждевременной тротуарной зрелости… И как дети они непосредственно впитывают впечатление рассказа – то блеснут глаза, то жалобно раскроются рты, то гневно сожмутся кулаки… А появление страшного, кровожадного дракона, который поедал девушек, было встречено незаметно для самих слушателей градом таких ругательств, от которых он издох бы, вероятно, еще до удара копьем…». Одним из правил, обязательных для всех, был запрет на ругательства, но в данном случае «генерал» (старший среди ребят) оказал снисхождение, и ругательства обошлись ребятам без последствий.
Борис говорил с волнением. Ему хотелось «расправить скомканные крылья желаний их больных душ, хочется влить в них надежду на лучшее будущее, на кусочек счастья в этом холодном мире и для них»[64].
Примечательно, что эта поездка на пляж и доверительное общение с ребятами спасли Борису жизнь. В этой поездке Борис очень тепло отнесся к беспризорнику Митьке. Митька в числе прочих беспризорников, выразивших на желание, попал в приют, который курировался скаутами. В приюте ребята, в том числе, играли в подвижные игры. Во время игры ребята, «дни которых проходили в тюрьмах, на базарах, под заборами, в канализационных трубах, на улицах, под вагонами, в воровстве, картежной игре, пьянстве», сбрасывали с себя «личину своей преждевременной тротуарной зрелости и превратились в смеющихся играющих детей…»[65].
Скаутская организация, в том числе, готовила своих членов к активным действиям на случай помощи населению при пожаре. И вот во время одного из пожаров, Митька «пролез» в горящий дом и вынес оттуда ребенка. И «какое торжество было, когда Митьке медаль за спасение погибающих давали!..».
Со временем комсомольцы отстранили скаутов от работы в приюте. Организация скаутов была объявлена вне закона, скаутов арестовывали и отправляли в заключение. Когда скауты ушли из приюта, ушел из него и Митька.
Пути Митьки и Бориса разошлись. Борис, как и многие люди, во время массовых репрессий был репрессирован, отправлен в заключение. Однажды он вступился за священника, у которого хотел отобрать вещи уголовник. Уголовник, получив от Бориса отпор, решил Бориса зарезать. Зарезать, однако, не получилось, так как Борис был профессиональным спортсменом, владел приемами бокса и борьбы. С одним уголовником он справился, но его окружило целое множество других. И эти другие всем своим видом выражали решительную готовность отомстить за побитого собрата. Положение было критическим. Борис, по его собственным словам, готов был петь себе «Вечную память» (эти слова поются на заупокойной службе – панихиде). Толпу уголовников, с ножами надвигающуюся на Бориса, остановили слова Митьки: «Стой, братва, стой!». За прошедшее время он стал у уголовников, по собственному выражению, «вроде короля». Так и встретились Митька с Борисом[66].
О их дальнейших отношениях, очень теплых отношениях, развивающихся в условиях Соловецкого концлагеря, рассказывается в уже упомянутой книге. Возможно, образ Митьки был положен в основу образа беспризорника Сени, – героя сказочной повести Бориса Солоневича «Тайна Соловков». Сеня совершает благородные поступки и восходит на вершину самопожертвования ценой своей жизни, помогая выжить Диме; под образом Димы, по всей видимости, Борис описывал самого себя.
Контакт Бориса с ребятами стал возможен, в том числе и вследствие того, что Борис не осуждал их. Как видно из приведенных выдержек, он не перечеркивал их личности одним осуждающим словом. Он не переставал видеть за грубой коростой преступных навыков души, готовые к восприятию семян добра. Ребята не были для него чем-то таким, чем можно пренебречь как малоценным. В частности, такое отношение его к ребятам просматривается в главе «Судьба мальчугана».
«Мальчуган» пытался бежать из концлагеря, в котором Борис, в качестве заключенного, занимал должность врача. Мальчика при попытке к побегу растерзали собаки, и Борис сделал все от него зависящее для мальчика. Мальчик был ценен для него. В этом эпизоде проявилась жизненная позиция Бориса в отношении к ребятам (заключенные по-своему отметили поступок Бориса и сказали ему, что отныне он и другие «Солоневичи» могут спокойно оставлять вещи по выходе на работу, не боясь, что вещи кто-то украдет).
Его жизненную позицию можно описать мыслью, которая появилась у него в отношении одного беспризорника, укравшего у него очки. Эта мысль носит универсальных характер (то есть применима и в отношении других людей) и подчеркивает принцип неосуждения.
«Для нас, скаутов, – писал Борис о беспризорнике, – он не беспризорник, не вор и не убийца. Он для нас – просто русский мальчик, по неокрепшему телу и душе которого прошло тяжелое, безжалостное колесо революции. Чем виноват он и тысячи других, таких же, как он, в трагедии своей маленькой жизни?..».
Понятно, что к этим словам нужно отнестись разумно. Речь не идет о том, чтобы принять все беспризорник делает и говорит. Мол, раз он ни в чем не виноват, то и пусть себе ругается, а мы проявим «толерантность». Как было отмечено, во время проведения культурно-оздоровительно-спортивной программы был введен запрет на ругательства. Не-осуждение выражалось не в попустительстве, а в том, что ребята не были восприняты как безнадежно-потерянные. Неосуждение дает возможность оттолкнуться от мысли, что и для этого конкретного человека не все еще потеряно, и начать строить с ним отношения.
Если же мы осудили человека и как бы поставили на него клеймо отверженного, то наши отношения вряд ли могут развиться во что-то положительное. Принцип неосуждения был положен в основу воспитательного процесса А.С. Макаренко. Через руки этого педагога и воспитателя прошло около 3000 беспризорников, и ни один из них не вернулся на преступный путь. Ребята нашли свою дорогу в жизни и стали людьми. В общине Макаренко сборище малолетних преступников превращалось в дружную сплоченную команду. В колонии не практиковались наказания карцером. Самым тяжелым наказанием был бойкот.
Принимая в колонии очередного беспризорника, Макаренко не принимал его личное дело. Действовал принцип «авансирования хорошего в человеке» – «Мы не хотим знать о тебе плохого. Начинается новая жизнь!»[67].
На этот принцип можно посмотреть с точки зрения учения академика Ухтомского. Ухтомский пристальное внимание уделял и вопросу об осуждении. Осуждая ближнего, человек, по мнению академика, «предрешает для самого себя возможность совместного дела» с ближним.
О чем идет речь? Образ ближнего в нашем сознании предстает как сложный интегральный образ. Более подробно этот вопрос разбирается в цикле бесед «Искра жизни: Свет, сумерки, тьма», здесь же будет приведен некоторый фрагмент обсуждаемого в беседах вопроса и интегральном образе.
Образ, которым человек располагает, является продуктом пережитой им доминанты. Этот образ отличается совокупностью впечатлений, связанных с определенной доминантой.
Когда доминанта приходит в действие, она вылавливает «биологически интересные для нее раздражения из новой среды и обогащает мозг новыми данными». В результате притекания новых данных, образ обогащается, изменяется – переинтегрируется. Переработанный образ при прекращении действия доминанты уходит в архивы памяти. Когда доминанта вновь придет в движение, образ будет вызван из памяти и вновь будет более или менее глубоко переинтегрирован.
Вот, например, человек встретил старого друга. «Все прежние волнения переживаются вновь, жадно избираются новые впечатления, и, когда прежний друг уходит опять, вас удивляет, как образ его переинтегрировался для вас, – от того ли, что вы сами изменились, от того ли, что он оказался теперь не тем, что вы о нем думали». Образ друга вы наполняете «субъективными» оценками.
Подобно сему наши исходные понятия и образы «пере-интегрируются вновь и вновь по мере роста знания». Образ, имеющийся в сознании, возникает не в результате отпечатка пассивного ощущения. Он слагается в результате сложной деятельности. Например, переживание человеческого лица – есть образ, который творится и интегрируется в результате работы центров, «активно отбирающих отдельные рецепции».
В зависимости от новых, только что уловленных черточек или от наших новых настроений общий интеграл человеческого лица может измениться и перестроиться. «Иногда прежний сложившийся интеграл как бы расплывается в этих мелочах, дезинтегрируется, перестает нас интересовать, иногда интегрируется вновь, в новое, почти неузнаваемое целое».
Эти мысли академика напрямую связаны с вопросом об осуждении. Если человек раз и навсегда осудил ближнего, то образ ближнего перестает развиваться в сознании человека.
Если же не произносим над ближним окончательного суда, развитие образа ближнего в нашем сознании не заканчивается. А значит, остается возможность для того, чтобы увидеть в нем лучшее, чтобы любить его и «и осуществлять вместе с ним новую лучшую жизнь». Строить и расширять жизнь можно лишь с теми людьми, которых любишь. Любить же можно только тех, в ком допускаешь возможность лучшего и большего, что видится сейчас.
Строить, расширять жизнь и общее дело можно лишь с тем, кого любишь. Любить же можно того, кого идеализируешь. А идеализируешь того, «относительно кого ты допускаешь возможность лучшего и большего, чем он кажется сейчас; т. е. прогрессивная, ширящаяся, взаимно спасающая жизнь возможна лишь с тем собеседником, которого ты интерполируешь и проектируешь лучшими чертами». Ухтомский, христианин и ученый, считал, что только любовь «открывает возможность общего человеческого дела на ниве Божией» – «Любовь не терпит, всему веру емлет, не заводит, не ищет своего» (эти слова святого апостола Павла цитирует сам Ухтомский).
Разрабатывая свои идеи, Ухтомский интересовался тем, как конструируется человеческий опыт. Его интересовало, как при одних и тех же данных, притекающих из внешнего мира, у разных людей строится разное миропредставление. Например, Димитрий Карамазов сроит свое миропредставление иначе, чем его братья – Иван и Алексей, и иначе, чем его отец – Феодор. «Мироощущение предопределяется направлением внутренней активности человека, его доминантами!» Что человек искал и что он заслужил, то он и видит в людях и в мире. И мир, и люди поворачивается к нему так, как он того заслужил. В развитии такого сценария видится Ухтомскому уже упомянутый «закон заслуженного собеседника». «В том, как поворачивается к тебе мир и как он кажется тебе, и есть суд над тобою».
То есть, если человек говорит, что кругом все негодяи, то такой способ видения реальности наводит на мысль: а все ли в порядке с человеком? Понятно, что, подозревая постоянно в других подлость, он утомит их своими постоянными «проверками» и подозрениями. И, наоборот, стремление увидеть в человеке его лучшее и пробуждает это лучшее.
Прокомментировать эту мысль наглядно можно, обратившись к описаниям упомянутых Ухтомским персонажей романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Кратко можно сказать, что на страницах романа отец трех братьев – Феодор Палыч – предстает с негативной стороны. Он паясничает, развратничает, совершает выходки, которые возмущают окружающих (в отношениях Феодора Палыча и Алеши просматриваются некоторые черты, которые вполне могут быть заимствованы людьми, считающими, что у их родителей не наблюдается положительных качеств).
Его агрессивное поведение было связано с его мыслью, что другие, как ему казалось, видели в нем шута. И, вступая в общение с другими, он начинал играть роль шута, стремясь показать им, что он не боится их осуждения. «Именно мне все так и кажется, – говорил он старцу Зосиме, – когда я к людям вхожу, что я подлее всех и что меня все за шута принимают, так вот: давай же я и в самом деле сыграю шута, не боюсь ваших мнений, потому что все вы до единого подлее меня!».
Но к своему сыну Алеше Федор Павлович относился совершенно иначе. После того как Алеша появился, повзрослев, в доме Феодора Павловича, в последнем проснулось что-то из того, «что давно уже заглохло в душе его». Приезд Алеши подействовал на него с нравственной стороны, Алеша «пронзил сердце» своего отца тем, что «жил, все видел и ничего не осудил». «Ты, – говорил ему Федор Павлович, – единственный человек на земле, который меня не осудил, мальчик ты мой милый, я ведь чувствую же это, не могу же я это не чувствовать!..». Алеша принес в дом Федора Павловича небывалую для того вещь. Он принес «совершенное отсутствие презрения к нему, старику, напротив – всегдашнюю ласковость и совершенно натуральную прямодушную привязанность к нему, столь мало ее заслужившему». Для Феодора Павловича, утопающего в разврате и любившему лишь одну «скверну», такое положение дел было совершенно неожиданным. После ухода Алеши он признался себе, что понял кое-что из того, что ранее не хотел понимать.
Так на Алеше проявилось нечто из наставлений преподобного Нила Синайского. «Ревнуй, – советовал он, – о досточестной жизни, чтобы иметь тебе дерзновение исправлять согрешающих». Преподобный Нил советовал вразумлять согрешающего, но не осуждать падающего. Осуждать падающего есть дело злоречивого, а вразумлять согрешающего есть дело «желающего исправить». Того, кто вразумляет падшего, преподобный Нил призывает состраданием растворять слова; «тогда и уши его [падшего] умягчатся, и сердце просветится»[68].
Вследствие определенного отношения Алеши к миру и к людям закон заслуженного собеседника выразился на нем также вполне определенно. Отношение мира и людей к Алеше было сформулировано одним из персонажей романа следующим образом. Если Алешу оставить одного и без денег на площади незнакомого города в миллион жителей, то Алеша не погибнет от холода и голода. «Его мигом накормят, мигом пристроят, а если не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему никакой тягости, а может быть, напротив, почтут за удовольствие».
Алешу отличал определенный взгляд на насилие в отношении него. Он был уверен, что его не захочет обидеть отец. И даже более – «никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может». Примечательно, что у его отца взгляд на возможную обиду в его адрес был иным. Он считал, что иногда «приятно обидеться», даже там, где и обиды-то не было. Обиды не было, но сам, обидевшись, изолгавшись, придумал себе что-то. Уже было выше показано, как на поведение отца Алеши – Федора Павловича влияло постоянно подозрение насчет того, что окружающие его люди считали его за шута.
По аналогии можно поставить вопрос и о поведении человека, который убежден, что обидеть его никто не хочет. Если человек убежден, что его никто не хочет обидеть, то даже в тех случаях, когда его кто-то будет провоцировать на ссору, он поведет себя спокойно. И тем самым заложит основу для установления добрых отношений с провоцирующим.
На этот счет можно привести такую историю. Один священник как-то присутствовал в некой школе на школьном мероприятии. Когда он выходил из школы, он встретился с группой ребят, кое-кто из которых во время мероприятия проявлял признаки «хулиганства». Может, и не стоило бы усматривать в словах ребят какой-то умысел, но как показалось священнику, они затеяли разговор с целью «поддеть его» немного.
Один из них, имея в виду крест священника, спросил – золотой он или нет. Услышав, что крест – не из золота, он бросил нарочито насмешливые слова. Если бы священник среагировал на насмешку, то ему оставалось бы вступить в полемику, которая ничем бы не закончилась. Ситуация была тупиковой. Даже если полемика и была бы развернута, ребята всегда могли бы прервать ее колким замечанием, расхохотаться и священнику оставалось бы только понуро плестись «во своя си».
И потому он сделал вид, что не заметил тона, с которым были сказаны слова, и повел себя так, как если бы слова были вопросом интересующего технологией изготовления крестов человека. И священник вполне серьезно сказал, что крест, по его мнению, скорее всего, выполнен с применением технологии напыления.