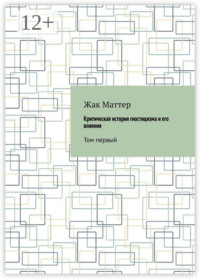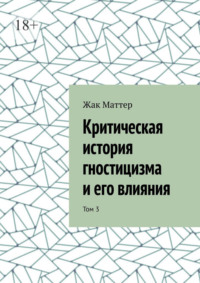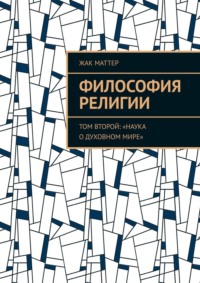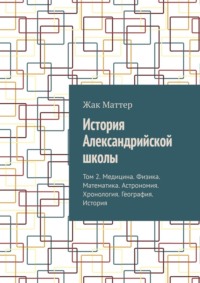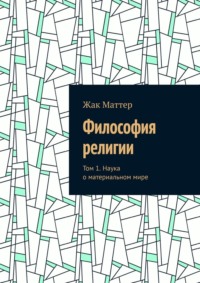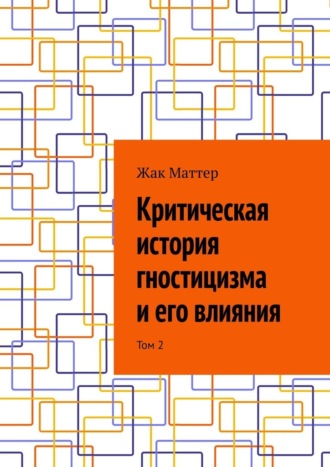
Полная версия
Критическая история гностицизма и его влияния. Том 2
Именно на это очень хорошо отвечает слово Каулакау, либо в том смысле, который оно предлагает на иврите, либо в том, который предлагала гностикам Египта версия Септуагинты. Эта основополагающая идея – воссоединение двух миров. Действительно, через искупление человеческие души, несмотря на то, что они прикованы к материальному миру, возвышаются или переносятся в мир интеллектуальный. Итак, слово Каулакау означает норму к норме; согласно Септуагинте, надежду к надежде; квалификации, которые прекрасно подходят к искуплению, которое дало низшему миру высший мир для нормы, и которое представило, согласно Василиду, каждой степени промаха соответствующую степень ἐλπίς.129
Похоже, однако, что василидиане не ограничивали слово Kaulakau личностью Спасителя, если допустимо использовать этот термин для обозначения Nous. Св. Иреней, хотя его текст в этом месте изменен, намекает на весьма примечательный факт: он говорит, что василидиане придумывают имена для ангелов; что они присваивают им различные небеса; что они объясняют не только имена, но и происхождение (principia), природу и свойства (angelos et virtutes) трехсот шестидесяти пяти сил, группируя их по небесам, oúgavo, и что, наконец, они дают миру Спасителя имя Kaulakau.130
Термин «мир», как мы уже видели, используется гностиками в особом смысле; он обозначает серию, класс интеллектов и область, которую они занимают, которой они управляют. Этот язык у них общий с большинством теософов древности, особенно с египтянами и новыми платониками. Таким образом, мир Каулакау включает в себя как интеллектуальный мир, который он открыл, так и низший мир, которым он управляет.
Эта точка зрения устраняет основную трудность, возникающую при сравнении древних текстов. S. Епифаний и Феодорит говорят, что слово Каулакау относилось к Спасителю; св. Иреней, напротив, утверждает, что мир, в который спустился Спаситель и в который он поднялся, называется Каулакау131, и это определение – единственное хорошее, оставленное нам древностью. Оно не полное, но менее неполное, чем определения Феодорита и Епифания, которые сосредоточены только на Искупителе, а не на фундаментальной идее искупления, и которые просто говорят нам, что василидианцы дали Спасителю таинственное имя Каулакау.
Спаситель играет важную роль во всех системах гностиков, и в этом теософы были согласны с ортодоксами. Они также схожи с ними в том, что представляли жизнь Христа как нравственный образец, которому должны следовать все те, кто желает войти в плерому через него.
Однако василидианцы, похоже, преувеличивали этот принцип подражания. Они говорили, что те, кто владеет тайнами Каулакау, всех ангелов и их потомства132, становятся невидимыми и непостижимыми для ангелов и высших сил, как и Каулакау. Несомненно, под этой невидимостью и непостижимостью они подразумевали такое совершенство, такое возвышение своих интеллектуальных способностей, что обычные умы уже не могли следовать за ними, их души как бы переносились в области невидимого и непостижимого. Противопоставить этой теории свою собственную видимость и понятность было бы не слишком удачной борьбой. Они могли либо окутать свои доктрины тайнами, недоступными профанам, либо признать, что их теория превосходит практику. Православие также рекомендует подражать Иисусу Христу в той степени, которой никто из его членов никогда не мог достичь, а чисто философская или естественная мораль сама по себе намечает для человека идеал, которого он никогда не сможет достичь.
Однако эти теории не менее истинны и необходимы; и василидианцы не преминули бы противопоставить эти аргументы своим антагонистам, будь то философы или христиане. Действительно, вполне вероятно, что их тщеславие не зашло так далеко, чтобы предоставить им другие, чтобы убедить их в том, что они действительно так же невидимы или непостижимы, как и божественное Мы.133
Однако если они и не претендовали на то, чтобы разделить все его величие, то, похоже, по крайней мере подражали его смирению. Подобно тому, как Мы сделали себя равными людям, они также хотели опуститься до них, изучать их, познавать их, проникать в них, но не позволяя им проникать в себя и познавать себя. Это не было мнением или теорией; это была торжественно принятая максима поведения, заимствованная не только из тайной ассоциации пифагорейцев, но и из таинственного жречества Египта, власть которого они, возможно, льстили себе, что равна власти простых людей из их секты. Торжественный приговор напомнил им об этой тенденции: Вы должны знать всех других, и никто не должен знать вас134.
Их склонность к таинственности вскоре заставила их придать этой сентенции значение, которого она, конечно, не имела изначально; они использовали ее, чтобы скрывать и отрицать свои убеждения, не только как христиане, но и как василидианцы.
Они уклонялись от мученичества, опираясь на пример Каулакау, который уклонился от крестной смерти135; они считали тех, кто стремился к ладоням исповедников, людьми, полными предрассудков, и ставили себя на равном расстоянии от христианства и иудаизма136. Таково, по сути, их положение в истории религиозных взглядов. Вряд ли они сами могли бы занять иную позицию, считая иудаизм весьма вторичным откровением, а тексты христианства – неизменным источником истинного откровения, данного разумом Высшего Существа.
Самые фанатичные секты успокаиваются с течением веков; самые религиозные, самые аскетичные вырождаются; самые возвышенные теософы имеют учеников, которые предаются самым вульгарным практикам: такова, в нескольких словах, история всех школ; такова же и история школы Василидов. Взгляды василидианцев на мученичество и отказ от своих убеждений содержали семена вырождения; эти семена, похоже, быстро развились. Уже Климент Александрийский обвиняет их в большой разнузданности принципов, а во времена Порфирия и святого Епифания их нравы были очень развращены.137 Они верили, что совершенные люди не связаны никакими законами, что их тела могут без опаски следовать всем склонностям, которые ими движут, что их души находятся слишком высоко над материальным миром, чтобы быть затронутыми им, и что само сладострастие не может изменить их чистоту. В этом отношении василидиане полностью отличались от аскетических сект Сирии, все из которых требовали большей чистоты от совершенных и избранных, чем от психических или деликатных.
К этим неблагоприятным сведениям Феодорит добавляет, что василидианцы, как и ученики Менандра и Симона, занимались магией и всякого рода самозванством138. Это было искусство, которое, как они утверждали, они практиковали под влиянием духов, с которыми их мистерии приводили их в контакт. Феодорит приписывает им и другие вещи, о которых он воздерживается говорить, чтобы не обидеть своих читателей; но он говорит не о безнравственности, о которой хочет умолчать, а о теориях, или, как он выражается, баснях139.
Таков был конец секты теософов, о которой св. Климент Александрийский сказал своими словами: «Поклонение этих гностиков состоит в постоянном внимании к своей душе; в размышлениях о божестве, как о неисчерпаемой любви. Их наука состоит из двух частей. Первая занимается божественными вещами; рассматривает первую причину, благодаря которой все было создано, без которой нет ничего из всего существующего; исследует сущность вещей, которые проникают и связывают друг друга; задается вопросом о силах природы и спрашивает, к чему они ведут.140
Во второй части речь идет о человеческих вещах, о состоянии человека, о том, что соответствует его природе, а что нет, о том, что он должен делать и страдать. Здесь рассматриваются пороки и добродетели, хорошие, плохие и безразличные, или средние вещи. Св. Климент добавлял к этим характеристикам: «Василид говорит, что Верховное Существо должно почитаться не в определенные дни, а в течение всей жизни, во всех отношениях. Гностик молится, потому что знает, что молитва может происходить где угодно и что она всегда будет услышана».
Конечно, ничто так не подходило для основания моральной ассоциации и сохранения ее религиозных тенденций, как такие идеи.
Несколько умов, равных уму Василида, укрепили бы и увековечили эти тенденции; но все, что могло бы служить рекомендацией его системе, выродилось в руках неумелых преемников, ни один из которых не был способен проиллюстрировать ни школу, ни себя. В результате василидианцы просуществовали лишь в неясной форме до V века141. Если учесть, с каким рвением с ними боролись не только их историки, святые Иреней, Епифаний и Феодорит, но и Агриппа Кастор, святой Климент Александрийский, Ориген и некоторые другие142, то возникает соблазн предположить, что они составляли весьма многочисленную секту; однако напрасно искать у историков первых веков какие-либо положительные данные на этот счет. Статистика – одна из самых современных наук. Древние не приводят цифр для ортодоксальных церквей, не говоря уже о сектах. Похоже, что в целом они преувеличивали как в отношении одних, так и в отношении других143. Согласно С. Епифания, василидиане распространились не только в Александрии и окрестностях, но и в нескольких префектурах Египта, где они основали школы;144 а согласно С. Иерониму, их можно было встретить даже в Александрии. Иероним, их находили вплоть до Испании145. Василидианские камни, найденные в последней из этих стран, похоже, подтверждают сообщение святого Иеронима.146 В другом месте мы увидим, что другие гностические партии также распространились в Испании и даже в Галлии.
Как и большинство других гностиков, василидианцы писали слишком мало для распространения своей секты. Кроме экзегетических трудов Василида, гимнов, которые он сочинял, несомненно, для поклонения, как и Бардесан, но от которых сохранились лишь незначительные фрагменты147; трактатов Исидора по психологии и его комментариев к пророчествам Вархора, василидианцы, кажется, ничего не опубликовали. Загадочные в своем учении, как и в самих себе, преданные вульгарным обычаям и дискредитированные развратной моралью, они уничтожили себя, избавив защитников ортодоксии в Византии от преследований.
Однако учение школы Валентина, возникшей параллельно со школой Василида и с самого начала сумевшей завоевать многочисленных сторонников, способствовало упадку их школ, возможно, не меньше, чем небрежность василидиан.
§4 Школа Валентина
О том, насколько широко были распространены и аккумулированы элементы гностицизма в Египте, лучше всего свидетельствует рождение в этой стране нескольких современных гностических сект. После смерти своего учителя, которая произошла не позднее 135 года н. э., василиды предложили такую широту верований и учений, которая могла побудить всех, чьи взгляды были в чем-то схожи с их собственными, объединиться с ними; и все же мы видим большое количество христиан, воспитанных в Египте, объединившихся вокруг нового лидера секты, который предлагает им мало преимуществ перед василидами, кроме того, что отводит античности больше места в своей системе. По правде говоря, эта система очень богата и дает объяснения некоторым проблемам, которые василидианцы не считали нужным решать; но эти объяснения не всегда являются решениями, а эти богатства не всегда являются сокровищами. Валентин излагает возвышенные взгляды на отношения между двумя мирами, а также на происхождение и судьбу человеческого духа, который по своей природе и своему органу, телу, принадлежит к обоим, как и все безрассудные теософы; но в результате его блестящие теории так мало доверяют разуму, что мы расстаемся с ними, как с теориями Платона, с сожалением, которое бывает при пробуждении от прекрасной мечты.
Валентин, которого С. Иреней ставит во главе всех гностиков, несомненно, из-за важности его теорий, кажется, был иудейского происхождения, но воспитан в христианстве, посреди всех мнений, которые мудрые и ученые тогда возбуждали в столице Египта, его родине.148 Вероятно даже, что в юности он познакомился с учением Василида, и оно, вместе с другими элементами теософской спекуляции, определило направление его собственной жизни149.
Как бы то ни было, он начал делать себе имя благодаря своему учению примерно в 136 году и вскоре добавил к своим урокам ряд работ, которые увеличили его славу настолько же, насколько и число его учеников.
Его труды утрачены, но у нас сохранилось несколько фрагментов его писем, трактатов и гомилий150; а Ириней, Климент Александрийский и Ориген151, а также автор Didascalia orientalis152, которые читали его труды, дают нам если не достаточные, то, по крайней мере, достаточно обширные сведения о его системе. Другие авторы, такие как Феодор153 и св. Епифаний154, дополняют информацию своих предшественников. Тертуллиан в своем трактате против валентиниан предлагает нам лишь вторичный источник их мнений. Правда, у этого писателя перед глазами был важный трактат Валентина, озаглавленный «София», и он часто ссылается на него155; но у него слишком мало восточного гения и слишком много ненависти к гностикам, чтобы быть верным толкователем их смелых взглядов.
Однако он сообщает множество подробностей, которыми не должны пренебрегать критики. Прежде всего, Валентин подражал благоразумию некоторых других гностических врачей в Египте и Сирии; он был осторожен, чтобы не оскорбить ортодоксальные церкви. Кроме того, Александрия, центр трудов человечества и пристанище для всех народов, предоставляла большую свободу в преподавании. Валентин не вызывал там никаких подозрений. Что, возможно, привлекло христиан, все еще немногочисленных в Египте, к его учению, так это уважение, которое он проявлял ко всему канону Церкви. Другие гностики уродовали христианский кодекс; Валентин, похоже, даже не признавал различий между книгами Ветхого и Нового Заветов.
Что могло вызвать подозрения в то время, когда он был близок к последним дням святого Иоанна, так это его претензия на то, чтобы быть единственным обладателем истинного христианского учения, то есть тайн, переданных Спасителем апостолам, или традиций Феода, ученика святого Павла. С такими претензиями он не сразу выдал себя. Он сам поспешил раскрыть свои заблуждения, покинув Александрию и отправившись в Рим, где преподавание было менее распространено и гораздо более тщательно контролировалось, и куда большинство лидеров гностицизма, похоже, отправились только для того, чтобы быть осужденными.156 Он прибыл туда около 140 года н. э., был отлучен от церкви до трех раз и, наконец, отправился на Кипр, где у него также появилось большое количество последователей.157 Он был первым гностиком, отлученным от Римской церкви.
На острове Кипр проживало много евреев, и это обстоятельство, в сочетании с близостью к Азии, сделало его более восприимчивым к теософским доктринам, чем другие.
Если в целом довольно трудно составить полное представление о системе Валентинуса на основе имеющихся у нас фрагментов его сочинений и сообщений его оппонентов, то еще труднее отличить то, что принадлежит мастеру, от того, что исходит от учеников.
Как и система Василида, система Валентина предлагает двойной ряд проявлений и существ, все из которых связаны с единой первой причиной, но которые, тем не менее, не одинаковы; одни из них являются непосредственными проявлениями полноты божественной жизни, а другие – лишь эманациями вторичного гения.
Этот двойной ряд даже указывает на то, что между двумя классами существует некий раскол, который необходимо держать в поле зрения, как и сами два ряда, по мере того как мы будем проходить через огромное развитие этой доктрины.
Глава обоих рядов, который, тем не менее, является лишь непосредственной главой первого, есть существо настолько совершенное, что он представляет собой бездну, βυθος, которую не может постичь ни один разум; ни один глаз не может достичь невидимых, невыразимых высот, в которых он обитает. Невозможно понять и бесконечную продолжительность его существования: он был всегда; он – προπατωρ, προαρχη; он будет всегда; он не стареет158.
Развертывание его совершенств (διαθεσις) дало существование интеллектуальным мирам. К этому акту нельзя применить слово «творение», ибо он не произвел того, чего не было; он вывел наружу то, что было скрыто, – то, что было сосредоточено в плероме.
Интуиции, которым это действие дало существование, носят имя отложений (diabéσεis); они также носят имя возможностей (duvάμeis): но у них есть еще одно, которое характеризует их гораздо более отчетливо как субстанции, как части Высшего Существа, и которое напоминает эпитеты, которыми каббалисты наделяли ангелов и сефирот Энсофа: это имя эонов, αιωνες.159
Если Валентин не был первым из всех гностиков, кто использовал этот термин, то он, по крайней мере, был первым, кто представил все богатства полной теории эонов160.
На самом деле его гений создает их, называет, классифицирует, связывает друг с другом, определяет их судьбы и делает их произведения известными с такой плодовитостью и гибкостью, которая оставляет позади не только авторов большинства философских систем, но и авторов самих гностических доктрин. Вот основные черты его теологии.
Проведя бесконечные века в покое и молчании, Виф решил проявить себя и для этого воспользовался своей Мыслью, которая одна была его; которая не есть проявление его существа, но которая есть источник всех проявлений, мать, получившая зародыш его творений. Будучи его существом, его Мысль, ἔννοια, носит также название χαρις, счастье, и σιγὴ или ἄρρητον, поскольку ее сущность невыразима и ее природа – совершенное счастье.161
Первым проявлением, порожденным мыслью Высшего Существа, был интеллект. На своем аллегорическом языке валентиниане выражали эту идею следующим образом: Энноя, оплодотворенная Вифосом, дала жизнь Нам, единственному сыну, μονογενὴς. На этом языке Бытос – мужчина, как Амун в египетской теогонии; в других случаях он называется måle-female, αρρενοθηλυς; тогда он рассматривается в состоянии единения с Энноей, как Амун – мужчина-женщина в союзе с Нейт.
Nous – это первое проявление сил Бога, первый из эонов, начало всех вещей; именно через него открывается божественность, ибо без акта, дающего существование, все было бы погребено в глубинах Вифа; даже преступление – хотеть знать то, что не открывает моногенез.162
Следующие эоны – не что иное, как откровение Бога в деталях; они – формы великого существа, имена того, чьи совершенства не может передать ни одно имя, μορφαὶ τοῦ Θεοῦ, ὀνόμαα τοῦ ἀνωνόμαοςυ. Одни из них мужского рода, другие – женского, следуя основной идее системы эманации в сочетании с генерацией. В Вифе все едино; как только он разворачивается, возникают антитезы, состоящие из всех степеней бытия: однако это однородные антитезы; сизигии, союзы, как Виф и Энноя.163
Первый из них, мужчина, – активный принцип, формирующий принцип; второй, женщина, – пассивный принцип, размножающийся принцип. От их супружеского союза рождаются другие эоны, которые являются их образом, их откровением. Вместе они образуют плерому Вифа, полноту атрибутов и совершенств того, кого никто не может познать во всей полноте, кроме его единственного сына164.
Вместе с моногеном родилась его спутница Алетея165 вместе с Байтосом и Энноей они образуют первую тетраду, корень, источник всего сущего. Их проявления – Логос и Зоя166, а откровения – Антропос и Экклесия167.
Эта вторая тетрада образует с первой валентинианскую огдоаду, которая соответствует первому ряду богов или огдоаде египетской теогонии. Однако между одним и другим есть все различия, неизбежно вызванные спиритуализмом гнозиса. Все мифологическое в образе Кнуфиса, который, к тому же, очень похож на Нуса, как Энноя похожа на Неита, и все физическое в образе Мендеса, полностью отброшено в школе Валентинуса.
Согласно обычным правилам эманации, последующие Эоны должны были последовательно возникать друг из друга посредством сизигий. Валентин отошел от этого принципа, выведя декаду и додекаду, завершающие плерому, первую – от Логоса и его спутника, вторую – от Антропоса и его спутника.
После рождения Антропоса и Экклесии Логос и Зоя произвели на свет Битиоса и Миксиса, Агератоса и Энозиса, Автофиса и Гедона, Акинетоса и Синкрасиса, Моногена и Макария.
В свою очередь, Антропос и Экклезия породили Параклетоса и Пистис, Патрикоса и Элпис, Метрикоса и Агапе, Эиноса и Синезиса, Экклезиаста и Макариота, Фелетоса и Софию.
Что это за существа или аллегории? Откуда Валентин взял их имена и модели?
Огдоада168, несомненно, является высшим существом в проявлении. Являются ли декада и додекада, которые составляют часть плеромы во второй и третьей строках, проявлениями высшего существа? Это даже не может быть вопросом. Правда, Элпис и Пистис кажутся скорее принадлежащими к человеческой, чем к божественной природе; но, конечно, не человеческую природу хочет проанализировать или аллегоризировать автор этой системы: это божественная природа, это плерома. Это также не шкала различных стадий или состояний религиозной души (diasμala), которую Валентин предлагает нам в таблице своих эонов: Это эоны, и это эоны Бога, то есть ипостазированные проявления божественной жизни и совершенств; интеллекты или гении, которые распространяют эту божественную жизнь во всем, что участвует в интеллектуальных мирах; божественные типы, которые предлагают себя религиозной душе, защищают ее, сообщают ей небесные дары, ведут ее к плероме.
Если применить эти идеи к Декаде, то она покажется нам не такой уж и непонятной, как это кажется на первый взгляд. Бытиос, который имеет природу Бытоса; Агератос, который не стареет; Автофиес, который (всегда) имеет одну и ту же природу; Акинетос, который не претерпевает никаких изменений; и Моногенес169, единственный сын, характеризуются по самим своим именам как проявления Высшего Существа, порожденные Логосом.
Их спутники: Миксис – союз, соединение; Хеносис – союз; Хедон – сладострастие; Синкрасис – умеренность, проистекающая из силы; Макария – счастье – так раскрывают их природу, их состояние, их влияние. Нетрудно было бы указать сокровища науки и добродетели, которые каждая из них, в соответствии со своими атрибутами, могла бы сообщить религиозной душе; но, похоже, декада, стоящая выше человека, чем додекада, меньше соприкасалась со смертными, чем додекада.170
Додекада, дочь Антропоса и Экклесии, казалось, более непосредственно защищала христианина, то есть Валентиниана.
Она предложила ему Параклетоса, Святого Духа; Элпис, надежду; Пистис, веру; Агапе, милосердие; Синесис, разум; Макариотис, счастье; София – мудрость, а также некоторые другие Эоны, природа которых может показаться сомнительной, такие как Патрикос, Метрикос, Эинус, Экклезиастикос и Фелетос, но чьи спутники, вера, надежда, милосердие, разум, счастье и мудрость, открывают нам свои атрибуты, согласно фундаментальному принципу сизигии.
Откуда Валентин взял имена и модели этой плеромы?
Египет предоставил ему огдоаду, декаду171 и додекаду; греческая мифология и теогония Гесиода представили копию; Персия учила трем порядкам интеллекта; космогония Санхониатона знала об эманации и сизигиях; У Платона и Филона были найдены Логос, интеллектуальный мир, идестипы, защищающие гении; Василид, Церинф, Менандр и Симон дали πατὴρ ἄγνωςος и некоторые другие символы.
Однако классификация и терминология Валентина отличаются от всего, что предшествовало его системе, поскольку в его богатых теориях большую роль играют Ветхий и Новый Заветы и, похоже, сама Каббала. Имена Nous, Logos, Aléthéia, Zoé, Monogénès, Makaria, Paraklétos, Pistis, Elpis, Agapé, Ekklésia и Sophia, очевидно, взяты из греческого текста Септуагинты и Нового Завета; и, исходя из этих многочисленных примеров, возникает соблазн принять плерому Валентина за простую христианскую аллегорию, основанную в основном на греческом языке. Но это было бы странной ошибкой. Мы уже видели, что это не простая аллегория, тем более не христианская; и мы должны добавить, что весьма сомнительно, что греческая терминология, которую мы только что привели, является оригинальным языком системы Валентина. Несомненно, Валентин, египтянин, воспитанный в Александрии, говорил по-гречески и преподавал на этом языке172; но, родившись во Фребоните, он, несомненно, знал и древний язык своей родины173; и если не из него он заимствовал имена своей плеромы, мы должны полагать, что он также владел некоторыми идиомами из семитской языковой семьи.
Действительно, по словам С. Епифания, который часто имел перед глазами более полный исторический материал, чем его предшественники, Валентин дал своим эонам имена, которые, за редким исключением, объясняются арамейским или древнееврейским языком.174
Все эти проявления Бога были чистыми и отражали некоторые лучи его божественных атрибутов. Однако не все эоны были равны в совершенстве; чем дальше отстояли они от него, тем меньше знали о нем и тем ближе подходили к несовершенству. Упадок даже привел к вырождению, к падению, и искупление было необходимо в плероме. Древнее восточное поверье гласило, что даже в рядах небесных существ произошло падение, раскол. В некоторых системах этот раскол был столь же внезапным, сколь и радикальным. Ариман, гений света, изменился до такой степени, что стал желать только зла. Тифон уподобился ему, как и иудейский Сатана. В системе Валентина извращение плеромы не столь резко и не столь полно; оно совершенно иное; мотив чист; это стремление к знанию, как при падении протопластов: в этой системе принцип или гений зла не имеет ничего общего с источником добра; и эон София, в котором сосредоточено все падение плеромы, нисколько не похож ни на Ахримана, ни на Сатану. Такова природа этого падения.