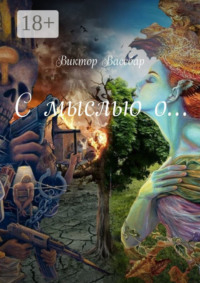Полная версия
Честь имею. Россия. Честь. Слава
А вот теперь, слава тебе Господи, Петенька, сыночек моей доченьки Машеньки, внучек мой любимый, воротился. Почитай лет пять дома не был. Радио сказывало, на том Востоке Дальнем, это ж какая даль, шесть дён ехали, страшные дела делались. Ну, да Бог с ними, не нашего ума это дело. А Зоюшка красавица стала. Раздалась в кости, только худенькая уж больно. Ну, ничего, здесь откормим. Как-никак, а почти что внучка, на моих руках выросла. Мамка-то её, дай Бог ей места светлого в раю, – Серафима Евгеньевна мысленно перекрестилась, – в восемнадцатом году совсем молоденькая погибла. А Петенька в отца пошёл… по военной части. Вытянулся-то как, а худущий, не приведи Господи. Это что ж такое делается. Их там, что ли совсем не кормили? Беда, прям! Издалека посмотрела бы, не признала. А герой! Грудь-то вся в крестах! Поболе, чем у Реваза Зурабовича. Войны бы не было… а то в народе поговаривают… И когда же они, ироды окаянные, от земли нашей русской отобьются! А Петенька, сыночек-то мой, и не знает, что в дом воротился племянник его с Зоюшкой. Да, кто ж ему и сообщит-то. Сын его, – Владимир, внучек-то мой младший, и тот узнал, что брат приехал лишь сегодня утром. Надо бы поспрошать его, как в дом придёт-то, может быть, удосужился сообщить отцу, что племянник приехал с Зоей.
– А Петру Ивановичу, баб Сима, я позвонила, – как бы услышав её мысли, проговорила Ольга. – С телефона домашнего прямо ему на работу. Он как раз у себя на службе был. Обрадовался. Сказал, что завтра приедет вместе с тётей Людой и Любочкой, четырнадцать ей уже, а уезжали, вот такусенькая была, меньше метра, – показала рост девочки ладонью раскрытой над полом. – Сейчас, верно, уже с меня, если не выше. Дядя Петя-то под два метра.
– Вот и славно, что позвонила, – ответила Серафима Евгеньевна. – У нас все в роду высокие. Муж мой, Иван Фёдорович, – перекрестилась, – в кузне работал, кузнецом. Так он подковы, которые сам ковал, на прочность руками проверял. Которые гнулись, снова в переплав. Кузня-то, она вон, – кивнула, – на Луговой, до сих пор стоит… аккурат напротив кирпичного дома, который до переворота был складом бельгийского анвентаря… плугов разных и другой железной надобности крестьянской. А Ванечки моего, почитай, уже с девяносто первого года нет. 27 лет горемычному было. Жизни-то и не повидал… Всё в работе и в работе. А росту высокого, более двух метров. В дом входил, бывало, нагнувшись, а бывало и затылком крепко вдаривался, это когда шибко пьяный домой приходил. Работа у него такая тяжёлая была. Без водки оно никак! Тому сделай, другому подправь, и всегда магарыч. Уважали его люди! Никому ни в чём не отказывал. Вот и сгубили Ванечку моего… люди добрые… тфу на них, идолов окаянных, – Серафима Евгеньевна сплюнула и перекрестилась.
В дом вошёл младший внук Серафимы Евгеньевны – Владимир. Следом за ним его жена Галина.
– Где братишка мой дорогой, дайте мне обнять его, – громогласно проговорил Владимир и, чуть ли не задевая головой потолок, прихрамывая, направился в гостиную комнату.
Навстречу Владимиру, широко раскрыв руки, из смежной с гостиной комнаты вышел Пётр.
– Рад, искренне рад нашей встрече, брат, – не скрывая радости, говорил Владимир, обнимал Петра и смотрел на Зою, свою первую любовь. – А теперь, дай-ка, и тебя обниму, Зоюшка. В юношестве мечтал это сделать, только не получилось, опередил меня братец. Прихрамывая на правую ногу, Владимир подошёл к Зое и осторожно, как тонкую фарфоровую китайскую вазу, обнял и поцеловал в щеку. – Вот теперь можно и по рюмочке за приезд. Реваз Зурабович сказал, чтобы не ждали, задержится на службе, а про Ларису Григорьевну ничего сказать не могу, так как не знаю, и не докладывает она мне по своей высокой должности.
– Мама звонила, сказала, что приедет вовремя, как назначено… к семнадцати часам, – услышав слова Владимира, ответила Ольга.
Со стороны улицы донёсся сигнал автомобиля.
– Лариса Григорьевна приехала. – Посмотрев сквозь окно на улицу, проговорил Пётр и развёл руками. – С рюмочкой придётся повременить, брат.
– Лара, доченька, приехала, – засуетилась Серафима Евгеньевна. – Красавица наша. Вот и славно! Вот и славно! А там и Реваз Зурабович придёт! Сынок к завтрему обещался, Олюшка сказала, вот и сберутся все! И снова в доме будет уютно и тепло! Давно дом-то не наполнялся радостью!
Серафима Евгеньевна суетилась и никак не могла найти применение своим неугомонным рукам. То фартук потеребит, то платок на голове поправит, то примется утирать слезящиеся от радости глаза.
– Баба Сима, присядь, дорогая! Весь день сегодня на ногах. Стол собран, почти все на месте. И не такие мы баре с Зоей, чтобы толочься из-за нас весь день у печи. – Как-никак домой приехали, не в гости, – усаживая родную бабушку на стул, говорил Пётр, думая:
– Знали бы все собравшиеся в этом уютном тихом доме, что нет в нём отца моего, не по причине неведомого никому исчезновения, а в силу сложившихся обстоятельств. Жив отец, но невольно скрывается под чужим именем, раскрыть которое, значит, похоронить не только его, но и многих из нас.
– Ой, Господи! – всплеснув руками, встрепенулась Серафима Евгеньевна. – Я же забыла арбузики на стол выложить.
– В стайке они? – спросил её Пётр.
– В стайке, внучек, в стайке! В бочке их в этом году посолила. Очень много уродилось, по соседям ещё раздала. Сладкие, словно мёд и один к одному, арбузики-то, не более детского мячика. Как девоньки-то выросли, так в коробочке за печкой и лежит! Машенька с ём играла, да и вы ещё… помню… А! – махнула рукой. – Ты, Петенька, в сенях-то таз возьми. В ём и принесёшь. В руках-то много не притащишь.
– Я помогу! – торопливо, как бы кто другой не опередил, проговорила Ольга, приподнимаясь со стула.
– Посиди, сестрёнка. Тяжело тебе будет. Вдвоём с братом справимся, – посмотрев на Ольгу, проговорил Владимир.
Выйдя из дома, Владимир посмотрел на небо и, притопнув ногой, проговорил:
– Не нога бы, в пляс пустился. День-то, смотри, разыгрался. Ноябрь, а тепло, как в августе. Радует погода в этом году, радует. Всё в меру, и дожди и солнце. На яме зимовальной, что у Подгляденого в июне и июле два раза был. Девять осетров, от полутора до трёх кг выловил, а стерлядей не считал. Их пол-лодки это точно! Всех рыбой снабдил. Осетров, конечно, закоптил, а стерлядей сюда, к бабе Симе в ледник стаскал. А грибов… – покачал головой, ни в жисть столько не видел, хоть косой коси. И ягод разных…
– Ты, брат, зачем пошёл за мной?.. О грибах речь вести, так это можно было и в доме, за столом, – пристально вглядываясь в глаза Владимира, проговорил Пётр. – Говори, прямо.
– Я вот что тебе скажу, брат. Увёл ты у меня Зою, но не в обиде я. Коли ушла сама, то не было бы у нас с ней жизни, если бы сошлись. Видел, что любит тебя и не препятствовал. Да и как мог… Ты вон… орденоносец, полковник.
– Ну, орденоносцем-то я стал будучи женат на Зое, а полковником вряд ли стану. Отправили меня в долгосрочный отпуск, а это сродни тому, что уволили… подчистую!
– Да, конечно… – задумчиво проговорил Владимир. – А с Галиной у нас любовь. Хорошая она жена, Петя, и мать заботливая. Зоюшку вот родила, вся в неё, красавица. Вот и запомни, брат, что бы ни случилось, не держу я на тебя зла, а предупредить хочу, потому и вышел с тобой из дому, чтобы с глазу на глаз поговорить.
Пётр, зная, где служит Владимир, насторожился.
– Давай-ка отойдём от случайных глаз и ушей подальше, – предложил Владимир. – Где тут у бабуши нашей тазик для арбузов? Верно в сенцах. Пойду, поищу. А ты покуда постой здесь.
– Что-то темнит братишка. Ну, да ладно, коли завёл разговор, скажет, – подумал Пётр.
– Нашёл, – выходя их дома с тазом, проговорил Владимир и пошёл к сараю. Следом за ним, в задумчивости потирая лоб, шёл Пётр.
Уже у входа в сарай, Владимир повернулся к Петру лицом и выпалил:
– Вот ты наверно думаешь, что гад я, пошёл в НКВД людей пытать. А я скажу тебе, никого я не пытаю и следствие не веду, я с бумагами занимаюсь. А куда мне с моей ногой? На заводе у станка долго стоять не смогу и вообще… тяжело мне ходить, ногу постоянно крутит. Отец помог устроиться на эту службу.
– Владимир, к чему ты мне всё это говоришь? Не думаю я о тебе плохо. Если бы не знал тебя, другое дело, но брат ты мне. Говори, не тяни.
– Видишь ли, Пётр, бумаги все через меня проходят. Сегодня утром из управления госбезопасности НКВД СССР пришёл ордер №32382. Выдан он начальнику следственной части УНКВД по Алтайскому краю капитану Магалтадзе на арест и обыск Парфёнова Петра Леонидовича, на твой арест брат.
– Зоя, что теперь будет с ней? – пронеслась в мозгу Петра мысль.
– О Зое не беспокойся, – как бы услышав брата, проговорил Владимир. – Спрячу её так, что ни одна живая душа не найдёт. А тебе, брат, надо бежать. Беги, Пётр, беги!
– Куда, Владимир? Страна большая, только укрыться в ней негде! И зачем? Нет, братишка, никуда я не побегу и прятаться не буду! Скрываться, значит, признать за собой вину, а я ни в чём не виноват ни перед партией, ни перед Родиной, ни перед нашей Красной Армией, ни перед народом нашего великого Советского Союза! Нет вины моей ни в чём. Честно служил Родине, и бегать от неё не собираюсь. А если судьба умереть, приму с честью.
– Может быть, ты и прав, Пётр, – ответил Владимир. – Но всё же не торопись с ответом, подумай, а под конец вечера скажешь. У меня есть место, где тебе и Зое будет спокойно.
– Спасибо, брат, я подумаю! Хотя, – через секунду, – подумал уже! Пусть всё идёт так, как решил Он, – вздёрнул голову вверх. – Пойдём за арбузами, а то, верно, потеряли уже нас.
– И ещё, остерегайся Реваза Зурабовича. Чувствую, не за того он себя выдаёт. Тёмная личность. Но я докопаюсь, будь уверен. А тебя, брат, расшибусь, но вытащу. Долго там не будешь… сидеть, – сказал и подумал, что никто в подвалах управления не сидит, там только без чувств лежат на холодном кровавом бетонном полу, закопанными в земле внутреннего дворика или кучкой пепла в печи крематория алтайского УНКВД.
– Просьба к тебе, Владимир. Подумай, прежде, чем ответить. Она касается многих людей, в том числе и тебя. Только честно, как офицер офицеру.
– Верь, как себе брат! Здесь, – постучав себя по груди, – как под замком!
– Отлично, брат. Слушай. Есть в твоём селе мужчина, хороший друг твоего отца, честный и очень добрый человек, но когда-то непонятый плохими людьми… Ты знаешь его и неоднократно был у него дома. Так вот, ни при каких обстоятельствах, ни сегодня за столом, ни, где бы то ни было, не упоминай его имя.
– Ты о ком, Пётр? Не понимаю тебя, – пожал плечами Владимир. – У многих был в гостях и многие бывают у нас дома. Все люди хорошие. С плохими у отца отдельный разговор.
– Вот о них и не вспоминай, ни о хороших, ни о плохих. Не вспоминай Старую Барду вообще, ни словом, ни полсловом. Живи сегодняшним днём.
– Обижаешь, брат!
– Пойми, Владимир, от того, как ты поведёшь себя, узнав имя этого человека, зависит жизнь многих людей, и в первую очередь всей нашей семьи. Жизнь твоих родителей, твоя, твоей жены и дочери, и конечно моя и Зои.
– Перестань, брат! Наставляешь меня, как ребёнка. Знаешь, в какой организации служу.
– Вот именно! И поэтому в первую очередь! А говорю я о Василии Борисовиче Смолине.
– О Смолине?! – пожал плечами Владимир. – Но…
– Извини, Владимир, больше я ничего не могу тебе сказать. Об этом не знает даже Зоя. О нашем разговоре, как понимаешь, тоже никто не должен знать.
Магалтадзе зашёл во двор дома Серафимы Евгеньевны одновременно с братьями, выходящими с арбузами из сарая. Увидев Реваза, Владимир нарочито громко проговорил: «… и вот, знаешь, Пётр, как бухнулся, ну, подумал, щас захлебнусь, и никто меня не спасёт. Глубина такая, что ногами дно не мог достать!»
– И как?.. – подыгрывая Владимиру, проговорил Пётр, приближаясь с улыбкой к Магалтадзе.
– Герой! Герой! – подойдя к Петру, воскликнул Магалтадзе. – Это сколько ж мы не виделись? Возмужал, в плечах раздался. Рад, рад за тебя! Подполковник, дядьку в звании обогнал. Года через три-четыре генералом будешь. Не подступись потом, а потому дай-ка я тебя обниму сейчас! – сказал и крепко, как родного человека, обнял, похлопывая по спине.
За столом Пётр проявлял сдержанность, ни словом, ни жестом не выказал, что знает об ордере на арест. Был даже весел, шутил, на просьбы собравшихся в доме рассказал о войне.
– Война это страшно. Красиво о ней могут рассказывать писатели, а тот, кто пережил войну, кто остался жив, вспоминает её разве что во снах. Война это яростные рукопашные схватки, рёв танков, канонада сотен орудий, песчаные вихри вздымаемые броневиками, сражения самолётов в воздухе, взрывы снарядов, кровь, стоны и боль солдат, искалеченные и разорванные тела. На этом, пожалуй, можно бы и закончить, но не могу не сказать о стойкости наших бойцов в борьбе с японским милитаризмом, посягнувшим на свободу миролюбивого монгольского народа. Я расскажу о своём полку.
Был у меня в полку молодой офицер Трошин Евдоким, собственно, как сказать был, и сейчас есть, это я был в полку, отправили в бессрочный отпуск. Так этот лейтенант, кстати, тоже, как и я окончил Омское военное училище имени М. В. Фрунзе, но позднее меня, в 1937 году, уже в первом бою проявил чудеса храбрости. Повёл взвод в атаку на превосходящего по численности противника. Завязался рукопашный бой, в котором он был дважды ранен из стрелкового оружия и получил 7 штыковых ударов. Но поле боя не оставил и враг бежал.
Боец его взвода Сапрыкин рассказывал:
– Японцы шли на нас большой плотной группой. Я видел их лица. И тут наш командир отдал приказ «Вперёд, на врага! За Родину, за Сталина!». Весь наш взвод поднялся во весь рост и бросился в атаку с криком «ура!». Я был рядом с командиром и видел, как он поднял на штык японского офицера с тремя звёздочками, застрелил троих японских солдат и спас меня, отбил удар японского штыка. Потом я дрался с японцем и не видел, как командир был ранен. А потом к нам подошло подкрепление, и японцы быстро побежали от нас. А уже после боя, когда командира унесли в санчасть, мы узнали, что он, будучи раненым, продолжал бой.
За отличие в том бою лейтенант был награждён орденом Красного Знамени, и ему всего двадцать два года.
– Внучек, а какие они японцы? Никогда их не видела, – спросила Серафима Евгеньевна Петра.
– Такие же, как и китайцы и кумандинцы, бабушка, узкоглазые. Таких здесь на базаре не меньше русских, только наши добрые, улыбаются, а японцы очень злобные. Пугать не хочу, но все же одном случае расскажу. В одном из боёв японцами был пленён младший политрук. Так вот, когда наши солдаты разбили японцев, то в одной из ям нашли его зверски изуродованный труп. Был отрезан нос, выбиты зубы, а голова пробита штыком. Вот такие они звери. Да разве это. Вот ещё один случай.
В бою на Халхин-Голе мои разведчики захватили старшего унтер-офицера японской армии Хаяси Кадзуо. На допросе он рассказал, что его часть «Исии Сиро», в которой он проходил службу, произвела три опыта по заражению местности с целью поражения войск противника. Он утверждал, что 3 июля 1939 года отряд выехал на границу Монголии в район боевых действий и остановился восточнее озера Мохорехи, где несколько раз менял позицию.
Опыты по заражению местности брюшнотифозными бактериями были произведены в ночь на 29, 30 и 31 августа 1939 года. Первые два опыта произвели по распоряжению командующего Квантунской армии генерал-полковника Уэда, третий опыт – по распоряжению генерал-лейтенанта Исии Сиро, непосредственного руководителя и разработчика биологического оружия.
По словам пленного, примерно с 1936 года к югу от Харбина в посёлке Хейбо был создан военный городок, в лаборатории которого велись опыты по разработке оружия с применением чумы, брюшного тифа, дизентерии и других бактерий. И после этого они называют себя цивилизованной нацией.
– Что не живётся людям, всё воюют и воюют? – слушая внука, думала Серафима Евгеньевна. – Хотя, соседи и то, порой, пускаются в ссору. Взять хотя бы Ивана Кречетова, что напротив, только-то и знает, что на своей двухрядке играть, ладно бы днём, а как напьётся, так всю улку своей черепашкой будит. Ему и так и этак, дай людям спокойно поспать, на работу утром, а он ещё и в драку. Ну, не злыдень ли! Злыдень и есть.
– Люблю, люблю! – сияя глазами, смотрела на Петра Ольга, и видела только его, и слыша только своё сердце, а не рассказы любимого о войне. – Мой! Мой был всегда и моим будешь! Не буду больше молчать. Всё скажу тебе. Знаю, и ты, Петечка, меня любишь! Вон как сильно целовал при встрече, губы аж до сих пор горят. Милый! Родной мой! Любимый! Только мой! Петечка, славный мой! Люблю, люблю тебя, любимый!
Зоя изредка бросала взгляд на Ольгу, видела и понимала сияние её глаз, но без острой ревности, хотя, как в любой женщине дорожащей любовью, маленькая искорка её всё же горела в сердце.
– Любит! До сих пор любит! – мысленно повторяла она и слышанная в девичестве притча о любви и жизни всплыла в ней.
– Твой уснул? – не оборачиваясь, спросил седой Ангел, услышав за спиной шелест крыльев.
– Да, угомонились, – присаживаясь рядом, ответил другой Ангел.
Он был моложе, и на его губах играла смущённая улыбка.
– Надо же!.. И не надоест!
– Что ты! У них каждый раз, как первый, и как последний, – ответил молодой. – Знаешь, он ведь умереть должен был уже несколько лет назад.
– Да ты что?! Серьёзно? – удивился седой Ангел.
– Инсульт, – кивнул молодой. – Сосуды головы у него слабые.
– Надо же! А выглядит крепким, – не скрывая изумления, проговорил седой Ангел. – И почему отменили? Или перенесли? Что-то очень хорошее сделал?
– Вроде бы ничего особенно, – пожал плечами молодой, и за спиной мягко зашуршали белые крылья.
– Так в чем же причина?
– Причина? – задумчиво проговорил молодой. – Не утверждаю, лишь предполагаю, что в любви. Он каждый день, что бы ни произошло, повторяет одну фразу: «Классная штука жизнь!» И ему добавляют сутки, переходящие в недели, месяцы, годы.
Седой понимающе кивнул.
– А он сам знает? О сосудах своих?
– Знает.
Оба надолго задумались.
– Молится? – поинтересовался через некоторое время седой.
Молодой вновь пожал плечами, и, подумав, проговорил:
– Пожалуй, да.
– В смысле? Как это «пожалуй, да?» – на ярко белом лице седого мелькнуло изумление.
– Он пьёт чай со своей любимой, – ответил молодой.
– Они пьют утренний чай и читают молитвы? – допытывался седой.
– Нет, – они молча пьют чай. После этого иногда обнимаются, всегда улыбаются или… – молодой Ангел заметно смутился, – или целуются.
– И ты называешь это молитвой? Почему? – непонимающе развёл руками седой Ангел.
– Потому, что Бог есть Любовь, – прозвучал ответ с высоты.
Не сговариваясь, оба подняли посветлевшие лица вверх и благоговейно умолкли. Что можно было сказать в ответ? Всё было сказано!
С небес лилась нежная музыка. Молодой Ангел, слушая её, впитывал слова Бога и в сердце его разгоралась любовь ко всем влюблённым в жизнь людям. А седой Ангел беззвучно повторял засевшую в мозгу фразу:
– Классная штука – жизнь!
***
Ночью в дом №16а на улице Чехова пришли люди в форме сотрудников НКВД и Петра Леонидовича арестовали.
Глава 3. Тревожная ночь

Догорев, ноябрьский день погрузился в ночь, и тёмное полотно её упало на улицы города. Погасли огни в окнах домов, на улицах смолкли голоса людей и звуки мычащих, гавкающих, хрюкающих домашних животных, лишь изредка со стороны окраинных дворов доносилось редкое тявканье дворняг. Тявкнет спросонья какой-нибудь пёс, ей подвоет такой же неугомонный кобель и снова тишина. Черна осенняя ночь.
А на сумеречном западе, разделённом трепещущей линией горизонта на твердь, поглощённую ночным мраком, и небосвод, поливаемый закатными лучами солнца, играют огненные всполохи. Прощаясь со светом дня, они бросают на темнеющее полотно небосвода радужные мазки. Лёгкая, едва различимая в хаосе света и мрака трепещущая дымка вливается в них, разрывает на брызги и мелкой искрящейся пыльцой небрежно бросает умирать на чернеющую Обь. Но прежде чем умереть в чёрном полотне реки, серебристые небесные огоньки ярко вспыхивают и, взлетая фейерверком по-над рекой, отдают салют жизни в широко раскрытых глазах человека, одинокого стоящего на краю обрыва. Знали бы они, в чьих глазах отдают салют жизни, то сожгли бы их прежде, чем умереть самим. Это были глаза демона в человеческом обличье.
– Здесь, на этом самом месте, шестнадцать лет назад, в такую же глухую пору я провожал их, – шептали губы человека, бросающего равнодушный взгляд на угасающий в Оби день. – Провожал, как думали они на жизнь, – на смерть. Всё повторяется, вот и сына их отправил на встречу со смертью.
Стонала ли душа человека в военной форме от таких мыслей?! Нет! Он был равнодушен к чужой жизни, но своей дорожил. За свою жизнь, за право жить самому и отправил на смерть шестнадцать лет назад друга однополчанина и его жену.
Мелкая влажная пыль падала на его лицо, но не отрезвляла от страшных мыслей и не отдаляла от дней, оставшихся в далёком прошлом, более того, вносила в его душу некоторое облегчение.
– Пётр повзрослел, подполковник, мог узнать мою тайну. И кто знает, куда могла забросить его военная стезя. А если в военный гарнизон в Грузии. Он мог оказаться в моём родовом поместье, а там портреты всех мужчин моего рода и среди них есть мой.
Поздний вечер ноября дохнул в лицо мужчины ночным холодом. Дрожь пробежала по его плечам и крупным каскадом покатила по спине и груди. Одна колючая снежинка упала на его лицо, вырвала из воспоминаний прошлого и внесла в реальность сегодняшнего дня, в котором предал человека, доверявшего ему, как отцу.
Так считал он, но Пётр Леонидович Парфёнов всё знал о нём, о его перевоплощении из князя в большевика и о его подлости по отношению к своему другу, отцу Петра. Знал, что он враг советской власти и убийца его матери.
– Такова жизнь, и моя в ней дороже! – вдохнув полной грудью влажный холодный воздух, спокойно проговорил Магалтадзе и, сделав шаг от края обрыва, повернулся лицом к городу. Через пять минут, пересекая улицу Чехова, невольно взглянул на дом, где несколько часов назад сидел за столом того, кого отправил в застенки Алтайского краевого УНКВД.
А в это время, в темноте комнаты, молодая женщина, вдруг резко постаревшая, задумчиво смотрела сквозь тёмное окно в плотную черноту, накрывшую улицу. Покраснели от слёз её красивые глаза, и вздувшиеся малярные мешки скатились на скулы.
– Ошибка! Пётр не враг! Разберутся и отпустят! – потирая опухшие от слёз веки, беспрерывно говорила Зоя. – Вот сейчас пойду, а он мне навстречу… улыбающийся, весёлый и скажет, что его вовсе и не арестовывали, а просто вызывали на беседу по военным делам.
– Ночью, по военным делам?! – восклицала Зоя, приподнималась со стула, но уже через секунду опускалась на него, и снова смотрела сквозь тёмное стекло окна на окрашенную ночью черноту пустынной улицы, на тёмные безлистные деревья, стыдливо вжимающие свою наготу во мрак.
Рядом с ней, склонив голову, в дремоте сидела Серафима Евгеньевна.
Моросил мелкий дождь. Лёгкий ветер колыхал ветви деревьев и сбрасывал с них водяную пыль. Разлетаясь, она осаждалась на стекло окна, возле которого сидела Зоя, собиралась в тонкие ручейки и, вяло струясь, стекала к нижней поперечине рамы, а оттуда, формируясь в крупные капли, катила к подоконнику, с него на землю и, теряясь в ней, умирала.
– Сыро, промозгло, я в тепле, а Петенька, мой родной Петенька сейчас в холодном сыром каземате, – представляла Зоя мужа в сыром мрачном подвале за решётками под замком. – Я не позволю… никому не позволю издеваться над моим Петенькой. Он и так изранен, живого места на нём нет. А вы!.. – Зоя мысленно погрозила им кулаком. Грозила, не концентрируясь на отдельных личностях. Грозила всем плохим людям, которые арестовали её мужа, хотя глубоко внутри себя видела среди этих плохих людей Сталина, Ворошилова и даже Магалтадзе, как представителя карательного органа НКВД. – Не позволю отнять у меня Петеньку. Моего Петеньку, – возмущалась мысленно. – Как это так… за что… дважды орденоносца, героя Хасана и Халхин-Гола… – негодовала, беспрестанно утирая покрасневшие от слёз глаза.
– Правильно Петя говорил, что-то здесь непонятно. Маршалов расстреляли. Такие большие люди и враги? Можно было бы поверить, если кто-то один, но не все. Уничтожить трёх из пяти маршалов, это же предательство! Боже! Так Сталин враг? И как это я сразу не поняла? Если маршалы враги, почему занимали высокие военные посты? Не разглядели? Это Ворошилов и его пособники враги! Боже, и как это я раньше не понимала. А эти, Магалтадзы, приезжали к нам полк, арестовывали честных боевых офицеров и теперь взялись за Петю. Но Петя не враг. Значит, враги они. И Магалтадзе враг. А я чуть было не стала ругать за столом тех чекистов, которые арестовывали офицеров в нашем полку. Надо идти. Но куда? Боже, как сильно болит голова. А Петеньку сейчас терзают и мучают!