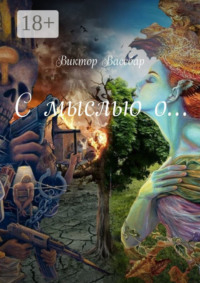Полная версия
Честь имею. Россия. Честь. Слава
Тихо скрипнула дверь девичьей спальни, и на пороге её показалась Ольга.
– Ну, мама, ты как маленьких на пирожки зазываешь. Мы и сами уже хотели выйти. Исть-то хочется! – проговорила Ольга и, подойдя к матери, обняла её. И ничё мы не капризничали. Я Зое книгу товарища Сталина показывала. «О Недостатках партийной работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников».
В ней товарищ Сталин упрекал в наивности и слепоте руководящих товарищей, имеющих богатый опыт борьбы со всякого рода антипартийными и антисоветскими течениями. Сказал, что не сумели разглядеть настоящее лицо врагов народа, не сумели распознать волков в овечьей шкуре, не сумели сорвать с них маску! Привёл примеры вредительства в разных отраслях народного хозяйства и сказал, что злодейское убийство товарища Кирова было первым серьезным предупреждением, говорящим о том, что враги народа маскируются под большевиков для того, чтобы втереться в доверие и вредить нам. Бдительность и политическая прозорливость – вот верное средство для предотвращения любых злобных действий врага.
– Называется, провела политическую беседу, – мысленно подумала Лариса Григорьевна. – Глупенькая взрослая дочь, когда же ты посмотришь на жизнь не через розовые очки, и увидишь ли её в ближайшее время? Родина, патриотизм, – всё это хорошо, но они ничего не стоят без сердца, наполненного любовью к родным людям!
Ларисе Григорьевне хотелось сказать дочери, что на войне умирают за родных, любимых людей, а не со словами «Умираю за Сталина!»
– А потом, мама, – кружилась по комнате Оля, и её пышная юбка кружилась вместе с ней, – я Зое рассказала о соседе Шумакове, и дом его из окна показала. Сказала, что его тоже арестовывали, а потом через месяц выпустили. Сказали, разобрались и отпустили. Невиновен был, что станок, на котором он работал, сломался. Станок просто уже износился. Вот и Петю выпустят. Правда, мама?
– Конечно, правда! Только всё же я думаю, что Зое нужно временно уехать из Барнаула. – Налив в чашечки чай, Лариса пригласила девушек за стол.
– Куда, мам, ты что? Это же бегство! Сразу решат, убежала, значит, виновата!
– А вы в гости поедете.
– Кто это мы?
– Ты и Зоя.
После этих слов волосы у Ольги, красивого каштанового цвета, а ресницы и брови совершенно черные, казалось, изменили цвет, стали смоляными. А большие колдовские чёрные глаза, застыв на матери, стали стремительно расти и округляться. Не отставал от волос, ресниц, глаз и бровей прямой нос, сморщившись, он вздёрнулся вверх.
– Мама, ты что говоришь? – с трудом разжав плотно сомкнутые губы, превратившиеся вдруг из кораллово-красных в бледные ромашковые лепестки, сморщилась Ольга. – Зачем мне куда-то ехать?
– Поедешь вместе с Зоей. Тебе ли не знать, что бывает с родственниками арестованных. Зоя может не выдержать допросов и наговорит на себя всё, что будет угодно им…
– И куда я поеду? Нас везде найдут.
– Я направлю тебя в Бийск, – посмотрев на дочь, – по комсомольским делам от крайкома партии. Оттуда прямиком на Старую Барду, – ответила мать. – Петру Ивановичу перескажешь слова Зои и скажешь, что мы принимаем все меры по освобождению Петра. Расскажи всё, подробно и без утайки. Он в селе начальник милиции, всё сделает как надо. Особо любопытным пусть скажет, что племянницы вы и приехали погостить. А потом он вас спрячет в надёжном месте. Писать Петру Ивановичу ничего не буду, всё расскажете на словах.
– Но, мама, у меня важные дела от информационного отдела. Еду с члена крайкома комсомола с агитпоездкой в Ойрот-Туру, – ответила Ольга.
– Вот и прекрасно. Сейчас попьёшь чайку и пойдёшь в крайком комсомола. Скажешь, что едешь в командировку по делам крайкома партии, а агитбригаде из крайкома комсомола, чтобы отправлялись без тебя.
***
В грозные годы гражданской войны, будучи маленькими девочками, Зоя и Оля жили в доме у Серафимы Евгеньевны. Были близки и дружны как сёстры, но в один из дней Оля резко отвернулась от Зои, не объяснив причину. Этой причиной, как выяснилось через несколько лет, когда девочки превратились в девушек, был Пётр Парфёнов. Но сейчас, когда над ним, любимым обеими женщинами человеком сгустились чёрные тучи, все разногласия и недомолвки отошли в сторону.
Высокая, стройная Ольга внешне выгодно отличалась от Зои, невысокого роста и полноватой, но характером Зоя была мягче и душой нежнее. Это и подкупило Петра, в его юношеские годы влюблённого в Ольгу. Подкупило и то, что в памятный для него июль 1928 года, год окончания учёбы в Омской пехотной школе, впервые в своей жизни услышал от Зои слова любви. Шестнадцатилетняя девушка, по-детски наивно посмотрела на него своими большими голубыми глазами, и прямо сказала: «Петя, я тебя люблю!»
Ольга, – строгая к себе, но внутренне готовая броситься на шею Петра и закричать: «Ты мой! Только мой! Никому тебя не отдам!» – сдерживала внутренний крик своей души и этим отстранила от себя Петра, решившего, что безразличен ей.
И вот сейчас, некогда две дружные подруги, молчаливо поссорившиеся пять лет назад, крепко обнялись и заплакали на плече друг друга. Страдание о человеке, любимом обеими, объединило их!
Ольга смирилась с тем, что не она, а Зоя стала женой любимого человека.
– Если любишь человека, не должна наносить ему раны и боль, – говорила она себе и покорно принимала случившееся.
А Зоя поняла Ольгу, поняла, что её любовь ничуть не слабее её любви. Поняла её страдающую душу. И как женщина, любящая женщина, сочувствовала ей.
Глава 4. УНКВД
Чёрная «Эмка», с хрустом взламывая узкими шинами тонкий слой льда, свернула с проспекта Ленина на улицу Ползунова и вошла во двор дома №34а.
– Магалтадзе приехал, – услышав скрип открывающейся дверки автомобиля, – злобно скривившись, проговорил старший сержант Пилипенко, невысокого роста следователь НКВД.
– На этот раз ошибаешься, Яков Андреевич, это машина начальника управления капитана Николаева, – не согласился с товарищем по службе сержант Чернов Семён Семёнович, обрюзгший от излишнего употребления спиртного сорокадвухлетний следователь НКВД.
На лестничной площадке «уставшие» сотрудники карательного органа курили «Беломор», обменивались собственными соображениями о методах ведения допросов, смеялись и бахвалились своими успехами в раскрытии контрреволюционных заговоров.
– Вчера ночь интереснее была, а эта так себе, – пустив колечко дыма, махнул рукой младший сержант Кривошеев, тощий и болезненный человек, третий из перекуривавших следователей НКВД.
– Ты когда, Игнат Иванович, закусывать научишься, от тебя постоянно прёт какой-то кислятиной, – скривился от дохнувшего на него зловонья Пилипенко. – Смотри на Семёна Семёновича, от него коньячком попахивает.
– Нельзя мне пить, Яков Андреевич. У меня язва. А воняет от меня от засранцев, которых ко мне приводят на допрос. Они как заходят в комнату допросов, так сразу в штаны и валят, обсираются, значит, вот и приходится с ними, засранцами работать, протоколы писать. Вонь, а куда деться? Окон нет, чтобы проветрить. Вот и приходится пропитываться их говном. Мне и жена говорит об этом, когда в постель со мной ложится. А я ей, исть вкусно хочешь, вот и не вякай, а раздвигай ширше ноги. Туда же ещё, сука павловская. С села Павловского она, а там все такие… противные. Баба, одним словом.
Говорили, бахвалились, возмущались потерявшие человеческий облик «опричники» революции, а в расстрельной комнате уже растапливали жаркую печь небольшого крематория, в который за прошедшую ночь только эти три сотрудника госбезопасности отправили девять человек.
Следователей не интересовало, кто были те люди, которых они одним росчерком пера лишили жизни, они даже не видели их в лицо, подписали очередные протоколы, в которых обвиняемые были указаны списком, и без приказа и акта о расстрелах, отправили их в расстрельную комнату подвального помещения УНКВД.
– А ты её кнутом, сразу шёлковая станет. Я со своей не валандаюсь, чуть-что сразу в морду кулаком, она тут же раком и становится, – гордо проговорил Чернов. – Не хватало ещё, чтобы бабьё кобенилось.
– А моя меня замордовала, – тяжело вздохнул Пилипенко. – Подавай ей каждый день, да ещё утром и вечером. С работы приду, еле ноги волочу, а ей подай и всё тут. И ведь, падла, пока не добьётся своего не успокоится, извоется вся, прям, тошно слушать. Вот же сучка уродилась.
– А ты её промеж глаз, – порекомендовал Чернов старшему сержанту.
– Посмотрел бы я на тебя, как бы ты ей дал… промеж глаз. У неё кулак ширше твоего в два раза, и в плечах, прям, Иван Максимович Поддубный, видел его фотографию в журнале, не помню уже каком. Вот моя, прям, точно Поддубный. Она и родом с тех мест, с которого он, из Черкасской области, с Украины, значит.
– Тогда терпи и исполняй своё мужское дело, – усмехнулся Чернов, при этом хитро сощурился и подумал, что надо бы напроситься в гости к Пилипенко. – По такому случаю можно и литр коньяка прихватить. Ух и прижал бы я её, да так вдарил меж ног её пышных, что зубы бы у неё заскрипели от счастья.
– А я вот думаю, откуда всякие такие урождаются. Их кулаками в морду, руки ломаешь, папиросами горящими в грудь тычешь, а они, суки, ни звука, – задумчиво проговорил Кривошеев.
– Ты о ком это, Игнат Иванович? – спросил Пилипенко младшего сержанта.
– Сегодня ночью вояку привезли. Капитан Магалтадзе приказал, чтобы разбился, а признание с него взял. Вот, все костяшки об него разбил, – Кривошеев показал разбитые в кровь кулаки.
– Об капитана что ли? – ухмыльнулся Чернов.
– Ты, чё, Семён Семёнович, – Кривошеев пристально всмотрелся в глаза сержанта. – Об этого гада, шпиона японского костяшки разбил. Он, сука, крепкий гад оказался. С Дальнего Востока приехал к нам шпионить, разведывать, что мы тут стратегического добываем в горах Алтайских, а потом шифровки в Японию отсылать. Ну, ничего, не таких ломал и этого обломаю. Валяется сейчас в своей блевотине на бетонном полу. Морда разбитая, а глазами, сука, так и жгёт… гад! Ну, я ему его моргалы-то тоже подправил, один от одного моего удара сразу и закрылся.
– А ты карандашом протокол-то напиши, а в нём, что ни в чём вояка не виноват. Он прочитает и подпишет чернилами, а ты потом карандаш-то сотри и напиши всё, что надо. Что враг он злейший нашего Советского государства, шпион японской и английской разведки, и работал по заданию врага народа Блюхера. Так и напиши, всё учить тебя надо. Месяц уже у нас служишь, а всё понять не можешь, что враг никогда не сознается в своей вредительской деятельности, следовательно, нам нужно быть хитрыми. Так-то вот, друг ты наш ситный, Игнат Иванович.
– Не подписывает гад. Я ему уже и руку левую сломал, а он, сука, только стонет и молчит.
– А ты с нас бери пример. Мы вообще никого не допрашиваем. Сами вместо врагов народа протокол подписываем и дело с плеч долой, – Чернов похлопал Кривошеева по плечу. – А потом стакан коньяку. И благодать по всему телу. Коньячок он пользителен для язвы. У меня тоже полгода назад что-то крутилось в животе, ещё до перевода сюда из района, мо́чи не было терпеть, аж ремнём живот перетягивал от боли, а как начал службу в управлении, да коньяк кажный божий день, так всё как рукой сняло.
– Пробовал я коньяк, Семён Семёнович, ещё хуже было.
– Пробовал, – засмеялся Чернов. – Его Игнат Иванович не пробовать нужно, а пить стакана́ми, тогда от него польза будет.
– А я вам вот что скажу, по мне хошь што, хошь коньяк, хошь водка, хошь сивуха, лишь бы в горле драло и в животе пекло, чтобы, значит, тепло по всему организму, – бросив окурок в урну и погладив живот, проговорил Пилипенко. – Тобишь, когда десяток другой к стенке поставишь и аромат кровушки горячей носом втянешь, а опосля поллитровочку, – снова погладил живот, – то никакая зараза не берёт.
– Это ежелиф сам в распыл пустишь, тогда, конечно, оно того самого, полезное это дело, – ответил Чернов. – Только наш друг Игнат Иванович здоровье своё блюдёт. Коньяк ему вреден, сивуха синяя, – сержант хохотнул от своей шутки, показавшейся ему смешной, – а потому надо его подлечить. Нельзя друга в беде оставлять. Как на это смотришь, Яков Андреевич, – Чернов посмотрел на Пилипенко, подумав, что после Кривошеева можно заглянуть и к старшему сержанту, а точнее к его жене.
– Вот сейчас, прям, и пойдём. Дежурство кончилось, можно и отдохнуть после тяжёлой ночи, – ответил старший сержант.
– Сегодня не могу. Капитан будет ругаться, – тяжело вздохнул Кривошеев.
С тяжёлым стоном открылась массивная дубовая входная дверь здания УНКВД по Алтайскому краю, до революции семнадцатого года торговый дом купца А. Г. Морозова с сыновьями, и на её пороге, отделяющем мир жизни от мира тьмы и ада, показался капитан Магалтадзе.
Пилипенко победно посмотрел на Чернова и проговорил:
– С тебя литр.
– А я завсегда. Сказал же, что в столе три поллитровки коньяку. Щас пойду и принесу. Чё им зазря валяться, когда можно спокойно выпить с тобой. Дежурство закончилось, можно и отдохнуть, – сладостно жмурясь в предвкушении поиметь жену старшего сержанта, проговорил Чернов, отдавая воинскую честь проходящему мимо капитану Магалтадзе.
– А с этими врагами народа оно, конечно, того самого, знаю, что можно и без них самих протокол вести, а потом в распыл, только капитан Магалтадзе приказал мне лично допрос вести, – громко проговорил младший сержант, смотря вслед капитану. – Я тут на днях врага с ТЭЦ допрашивал, тоже божился, что любит родину, а как сапогом саданул ему по яйцам, яичницу, значит, сделал, так тут же во всём и сознался и всех подельников своих выдал, с бабой своей в придачу. Та ещё сучка оказалась, но сладкая, всё такое плотное, аж как в кулаке. Трахал, орала, а когда потоптался на грудях, да раздавил соски, ни звука не проронила, сука. Сдохла, как курва бешеная. А потом её дед трахал, дохлую, думал, отпущу его если отымеет. Отпустил, – младший сержант хмыкнул, – на тот свет. А внучка его сговорчивей оказалась. Посидела в клетке с муравьями, с трубочкой в лоханке, надо же было показать муравьям самую короткую дорогу, через минуту и мамку, и тятьку, и брата выдала. Всё семейство своё вражеское. Пойду уже, отлили, верно, холодной водой-то шпиона японского.
– Иди, иди, а ежели надумаешь, приходи домой к Якову Андреевичу. У меня в столе три бутылки коньяка, как раз по бутылке на нос. Ты как, Яков Андреевич, баба ругаться не будет?
– А я ей вот, – старший сержант сжал правую руку в кулак и потряс им. – Я в доме хозяин! Будут ещё там мне всякие бабы того этого! Айда ко мне, отдохну хоть от неё, паскуды ненасытной.
– А мы её напоим, пусть валяется. Бабы они слабые на водку.
– Слабые! – хмыкнул Яков Андреевич. – На передок они все слабые, скажу я тебе, даже те, которые тощие. А моя самогон хлещет шибше моего. Ей и литра мало. Я от стакана валюсь, а она, стерва, только этого и ждёт. Штаны сдёргивает с меня и нахальничает, падла!
– Вон оно как! – загадочно улыбнулся Чернов и, посмотрев на старшего сержанта, проговорил. – А с тощими пробовал ли чё ли?
– А чё, не мужик ли чё ли! Было дело… два раза… с соседкой Нюркой, – старший сержант гордо вскинул голову. – Молодая баба, тридцати ещё нет, вдовая, мужик на реке по осени утонул… три года как. Попросила в погреб слазивать, сама-то до этого руку шибко побила где-то, сказала. Моя в это время была в бане. Я в стайку её зашёл, а она меня хвать за причиндалы и жмёт. – Не пущу, – говорит, – пока дело мужское со мной не свершишь. – Куда деваться, – Пилипенко почесал затылок, – сделал доброе дело.
– И как?
– Хороша, лучше моей! И пахнееет, – потянул носом, прикрыв глаза, – цветами. А от моей воняет, хошь и моется в бане кажную неделю, как от свиньи. Я потом с Нюркой через месяц ещё разок покуролесил. Безотказная девка, и всё при ней. Груди во, – показал на себе руками, выдвинув их от своей груди сантиметров на двадцать, – а жопа – всем жопам жопа, кругленькая и мяконькая. Я её сзади как приобнял, второй раз-то, она вся, прям, так и обмякла. Ох, и хороша, стерва!
Чернов слушал, загорался глазами и мысленно представлял себя в объятьях жены старшего сержанта.
– А я твою бабу, хохлятская ты морда, хошь в свинарнике, хошь где облапал бы, – мысленно говорил Чернов, и представлял себя пристроившимся к пышному заду жены Пилипенко. – Ежелиф она такая жгучая, мне это даже в радость. Дурак ты, Пилипенко, такую женщину понужаешь. Её на руках надо носить, а тебя, морда твоя хохлятская, давно пора в распыл пустить. Зазнался, как орден нацепил. А за что? Не больше моего в распыл пустил. А я, может быть, даже и больше. Только сегодня сразу семерых отправил в крематорий. Развелось их всяких врагов, ступить некуда. В газетах кажный день пишут об «антисоветских шакалах». Даже писатель Серафимович, не помню как его по батюшке и имени, в каком-то своём очерке писал, что гады шипуче-ползущие, извивающиеся вокруг ног идущих миллионов, это меньшевистско-буржуазные гады! Правильно он сказал, что не заронить им в сердца бойцов с врагами советского государства, в наши чекистские сердца, значит, яда их мутно-лживой слюны. И эту хохлятскую морду я выведу на чистую воду, а бабу его себе заберу. Мне такая баба нужна, я её ого-го, как того самого, вот, трахать буду! Кажный дён… раза по три. Есть у меня на него кое-что, нарыл по случаю. Ишь, орден нацепил, думаешь, не достану тебя, ещё как достану, – улыбнулся своим мыслям сержант.
– Засранцы, – неспешно вышагивая в комнату дознания в подвальном помещении управления, – понужал Кривошеев на чём свет стоит своих недавних собеседников. – Сами раньше меня сдохнете, а туда же ещё, пей коньяк их сратый. Сами и пейте, а по мне чай с малиной лучше вашего коньяка вонючего. Клопов надавили туда и радуются, смотри мол, как скусно клопами воняет. Тфу на вас, засранцев. Учат ещё, как дознание вести надо. Я сам вас могу чему надо научить. Туда же ещё, учат, твари. Тфу на вас, сучар, – Кривошеев смачно сплюнул на пол. – Один засранец орден нацепил и возгордился, а другой козёл козлом, ему только бабу и подавай, а сам дерьмо собачье. Всех баб бы кнутом, да промеж глаз, а сам, сука, так и смотрит, чью бы бабу на сеновал завалить, паскуда.
Открыв дверь в комнату дознания, Кривошеев получил мощный удар в челюсть, от которого у него подкосились ноги. Падая на бетонный пол, младший сержант сжался в маленький комочек, так, думал он, будет легче переносить удары ногой, а то, что они последуют, в этом он не сомневался, так как в падении видел того, кто нанёс ему удар. А ещё он думал: «За что? Я же старался по вашему указанию!» – Какие ещё мысли вертелись в его голове, он и сам не мог вспомнить даже после того, как его отлили холодной водой. Помнил только одно, приближающийся к своему животу до блеска начищенный сапог капитана Магалтадзе, после этого резкая боль в паху и темнота.
Внутренне негодуя, с трудом сдерживая гнев, капитан Магалтадзе сверлил глазами лежащего на бетонном полу Кривошеева, и мысленно хулил его едкими словами.
– Дурак, дубина стоеросовая, а ещё туда же, следователь НКВД. Тебе, суке, говно из сортиров в говновозке возить и жрать его своим вонючим хлебалом, а не следствие вести. Не догадался, харя мордовская, морда прыщавая, сучара поганый, и её арестовать, как пособницу мужу, японскому шпиону. Сейчас бы всё сказала, что нужно и не нужно. А там во внутренний дворик обоих и делу конец. Теперь на себе почувствуешь всю свою глупость. Мне на себя брать не резон твою тупость. Вот и отдувайся теперь.
Левая щека капитана, дёргаясь в нервном тике, раздражала его, и синеющий рубец от глаза до подбородка, оставшийся от удара саблей, полученный в годы Великой войны, вносил в облик грузина сатанинский вид.
– Арестовать её сейчас не получится. Хитрая бестия, домой не пойдёт, у меня в доме скрываться будет, а к себе не направишь сотрудников для её ареста. Надо поговорить с Ларисой, пусть она её выпроводит, скажу, что и на нас может упасть тень заговора. Вон, какие люди поплатились жизнью, Тухачевский, Егоров и Блюхер, а с нами и разговаривать не будут, сразу к стенке и дел куча дров! – Магалтадзе призадумался. – Отправить её обратно на Дальний Восток, а там… А что там? Там у Парфёновых друзей много, там могут всё перевернуть как им выгодно. Нет, в свою часть ей нельзя. Начнут докапываться и могут выйти на меня. А мне это надо? – Реваз шлёпнул себя по лбу. – Отправлю-ка я её в Старую Барду, пусть там с ней валандается Филимонов. Он жучара хитрый, пристроит, надоумит, чтобы помалкивала и не высовывалась со своими требованиями освободить мужа. Никто его уже не освободит, лет десять без права переписки, шёлковым станет. Ишь, сопляк, подполковник уже и два ордена, а я горбачусь и всего лишь начальник следственного отдела, капитан, и даже медальки нет… поганой! А мне ихние большевистские подрякушки и не нужны… чтоб они все… А с ней пусть Филимонов пурхается. Сегодня должен приехать. Вот пусть её и увозит с глаз долой. У меня и без неё дел полон рот! Как же вы мне все надоели, – вонючее, безмозглое рабоче-крестьянское быдло!
Магалтадзе смотрел на распростёртого на полу Кривошеева и злобно ухмылялся.
– Так говоришь, сиськи женщинам давишь, а потом заставляешь стариков трахать их трупы, – припечатав сапог к лицу младшего сержанта, сорвался на крик Магалтадзе. – Тебе, сучонок сратый, кто позволил руку поднимать на офицера Красной Армии без доказательства его вины? – размазывая сапогом сопли и кровь на лице Кривошева, не унимался в крике капитан. – Молчишь, сука! Ну, сейчас ты у меня заговоришь. – Магалтадзе приподнял ногу от лица Кривошеева и, что есть сил, опустил её на его грудь. В груди младшего сержанта что-то хрустнуло, и из неё вылетел предсмертный стон вместе с куском кровавой плоти из перекошенного от боли рта.
Ещё на лестничной клетке, проходя мимо сержантов, Магалтадзе решил физически убрать Кривошеева как исполнителя его указаний вести допрос жёстко. С этой целью он пригласил Филимонова Владимира Петровича в следственную комнату.
– Пусть видит, что я не виноват в аресте Парфёнова, тем более в его избиении, а наоборот принимаю все доступные мне меры к его скорейшему освобождению, – рассуждал Магалтадзе. – Филимонов сам всё увидит и этим утвердит в глазах наших общих знакомых и друзей мою тревогу и заботу о Петре.
– А что писать будем, Реваз Зурабович? – глядя на труп младшего сержанта, спросил Филимонов капитана.
– Так и пиши: «Допрашивая подследственного Парфёнова Петра Леонидовича, младший сержант Кривошеев Игнат Иванович поскользнулся на влажном бетонном полу и ударился грудью об угол стола, в результате чего в груди младшего сержанта что-то сломалось и он погиб, не приходя в сознание». – А потом мы этот акт подпишем и ты, как делопроизводитель пронумеруешь его. Семье его, конечно, выплатим компенсацию, а самого́ младшего сержанта похороним как героя, погибшего от рук врагов советской власти.
– А кого врагами-то причислим? – проговорил Филимонов.
– Тех, кого он сегодня в печь отправил и делу конец, – ответил Магалтадзе.
– А что скажем начальнику управления?
– Так и скажем, что всё произошло не на наших глазах. Зашли взять акт допроса подследственного Парфёнова, а младший сержант лежал на полу. Проверили пульс, а сердце уже не стучало. Мёртв был уже Кривошеев. Остановилось сердце и, падая, он ещё ударился об угол стола грудью. Видно, что-то сломал в груди, так как на губах запеклась кровь. Вот посмотри, тут даже на столе кровь есть, – проговорил Магалтадзе, вынул из кармана платок и, смочив его кровью с пола, обмазал ею стол. – Нельзя, Владимир, это дело так спускать. Враг Кривошеев. Убить хотел Петра Леонидовича, вот и поделом ему, врагу советского государства. Только мы так, конечно, ни писать, ни говорить не будем. Помер смертью героя, так и оформим.
– А что с Петром Леонидовичем?
– В тяжёлом состоянии. Но врачи у нас хорошие, поставят на ноги, не переживай. Хотя, как тут не переживать, – Магалтадзе делано горестно вздохнул, – родной нам человек в беде. Ну, ничего, подлечится, а там и дело закроем за неимением улик.
***
Тревожно звякнула металлическая щеколда калитки дома №16а на улице Чехова.
Отложив в сторону вязание нового половика, Серафима Евгеньевна, сидевшая на скамейке у окна, взглянула сквозь него во двор.
– Господи, снегу-то навалило! – покачала головой, вглядываясь подслеповатыми глазами во двор. – Кто бы это мог быть. Тфу на тебя, старая! Совсем ополоумела! – постучала себя по голове костяшками пальцев. – Верно, Зоюшка, воротилась. А вроде, как и не Зоюшка, худощавее её будет, – пожала плечами, различая сквозь облепленное снегом окно только силуэт вошедшего во двор человека. Крупные снежные хлопья били в окно, плотно усаживаясь на его стекло и забиваясь в щели, мешали обзору не только двора, но и самой улицы. – Опеть снег грестить надо! Будь он неладен! А и без него никак нельзя. Урожаю не будет! И всё же, кто это ко мне пожаловал. Совсем ничего не видать. Ишь, как окно-то снегом залепило!