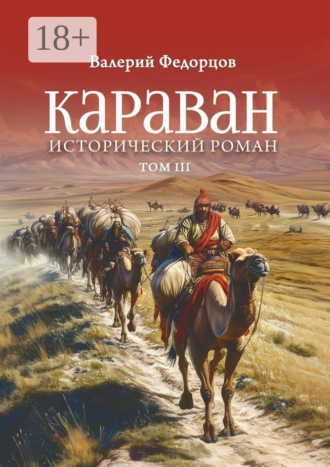
Полная версия
Караван. Исторический роман. Том III
– Ну, при такой беспечности ордынцев*, захватить эти трофеи было бы не так уж и трудно, а вот переправить их в Порту*, будет немалая проблема, – ответил Казан, – Поэтому давай, если что, искать вместе. А ещё о нашей встрече, и если вдальнейшем будут таковые, никто знать не должен, ни ваши, ни наши.
– У меня интерес такой же, – ответил Камол ад-Дин, – Клянусь Всевыщним! Но у меня, если можно, будет ещё один весьма щепетильный вопрос.
– Ну, если этот твой вопрос не военная тайна, то отвечу, – пообещал османец*.
– Думаю, что нет, – ответил Камол ад-Дин, – Кто тот человек, у которого содержалась моя невеста?
– Тоже мне вопрос! – усмехнулся Казан, – Да это же Пахом, ватман* ушкуйников*. Среди джете* он зовётся Петуховым. Но это, как я понимаю, фамильная принадлежность. А прозвище у него кажется «голубой». Его же людей, занятых с ним в деле поставок евнухов на невольничьи рынки, зовут «голубасами». Но другие ушкуйники* рассказывают о тех делах почему-то всегда с ухмылкой. Попробуйка пойми этих урусов*! Я в их хитроумия до конца не вникал. А у тебя какие к нему могут быть претензии? Ведь он, насколько мне известно, твою невесту и пальцем не трогал. Хотя тоже странно, может для какого жертвоприношения берёг? Среди урусов* ведь тоже всяких многобожников хватает? Попробуй ка найти истину? Я здесь не так давно, а потому обычаев здешних народов до конца ещё не постиг. Так что, разбирайся дальше сам, а я с тобой на эту тему не разговаривал. Да и моя вера копаться в подобных делах нас не одобряет. Договорились?
– Вполне, – согласился Камол ад-Дин, – Что же касается веры, то мне то же самое. Мы ведь кажется с тобой единоверцы?
На следующий день, взяв с собой ещё пятерых обещанных Доруком невольников, люди Камол ад-Дина и Дархана направились обратно в город Мохши*.
– Я же обещал, что вернусь, – напомнил посланец* своей невесте.
– Зачем я тебе нужна после всего, что случилось? – cпросила его Ламзурь, – Тебе нужно жениться на достойных женщинах.
– Перестань, – успокаивал её Камол ад-Дин, – Если бы даже что-то и случилось, это не повод для отказа от такой как ты.
Теперь, по прибытии в Мохши*, Камол ад-Дин разместил своих людей в караван-сарае* Наровчат-Уйнинг, оставив при себе в бек-сарае* Дархана лишь Чембара с Вождей. А на следующий день, они с Дарханом вновь отправились в эмират* навестить Тахирбека. Однако вместо него, там оказался вернувшийся из московского похода пятью днями раньше, темник* Урусчук.
– А где Тахирбек? – спросил его Дархан, после того, как темник* поделился результатами завершённого похода.
– Тахирбек арестован и вывезен в Сарай*, – сообщил Урусчук, – Буквально позавчера здесь ещё находился Тохтамыш с остатками своего войска и всей своей хаваши*. На Тахирбека возложили вину за произошедший в этом городе досадный конфуз. Но вы о нём пока ничего не знаете.
– Почему не знаем? – возразил Дархан, – Мы с Камолом уже всё знаем. О нападении на ордынский булюк* и хищении туфангов*, не только мы, вся округа знает. Но какая в том вина Тахирбека?
– В нападении на булюк* никакой, – ответил Урусчук, – Его в этом никто и не обвинял. Тахирбек допустил другой досадный промах. У нас в зиндане* содержался арестованный Тохтамышем во время похода, булгарский улусбек* Сабан. Накануне прибытия сюда Тохтамыша, в Мохши* наведались неизвестные, переодетые царскими кешиктенами* и вручили Тахирбеку фарман* ордынского царя*. Этот фарман* был скреплён ал-тамгой. В нём предписывалось немедленно передать этим кешиктенам* арестованного Сабана для препровождения его в Сарай*, что Тахирбеком и было сделано. По прибытии же Тохтамыша выяснилось, что никакого фармана* он по поводу Сабана не давал, а оттиск ал-тамги* на нём, оказался фальшивым. Тахирбек же, никогда в жизни не видевший ни подписи царя*, и не знавший как на самом деле выглядит оттиск его ал-тамги*, поверил предоставленной ему фальшивке и выдал арестованного Сабана лжекешиктенам, не спросив у тех, даже их имён. Хотя последнее, врядли что-то бы дало, ведь эти люди могли назваться кем угодно.
– А ведь на месте Тахирбека мог оказатся и я, да и любой другой как я, – удручённо заметил Дархан, – Ведь к нашему общему сожалению, никому из нас, кешиктенов*, никогда не показывали, как на самом деле выглядит подпись царя* и оттиск его ал-тамги*.
Свадьбу Камол ад-Дина и Ламзурь сыграли скромно, без излишеств. Это была, прежде всего, просьба самой Ламзурь, не привыкшей к роскоши и публичности. На так называемый «медовый месяц» было отведено всего пять дней, так как и Камол ад-Дину, да и Дархану, нужно было как можно скорее спешить в Сарай*, вслед за ушедшим туда Тохтамышем.
– Я оставлю тебе своих нукеров*, – сказал на прощанье Камол ад-Дин, – Они сопроводят тебя до Самарканда. Со мной останутся лишь Чембар с Вождей. Вы только здесь не задерживайтесь.
– Я, наверное, никуда не поеду, – ответила Ламзурь, – Там у тебя лишь другие жёны, а сам ты в основном живёшь здесь, в Орде*. Здесь мы с тобой сможем даже чаще видеться, чем в твоём Самарканде, да и за тораком* брата кто-то должен приглядывать. Вон он у него какой, целый бек-сарай*. Родится ребёнок, навестишь нас повозможности. Мне давно уже знакомы издержки твоей службы. У меня ведь брат такой же, как и ты.
Как не уговаривал Камол ад-Дин свою новую жену уехать к нему в солнечный Самарканд, всё было тщетно, Ламзурь стояла на своём. И вопреки всем обычаям, установленным на его родине, посланец* уступил, согласившись с решением Ламзурь. Он понял, что девушку, выросшую в относительно свободной среде, в хиджаб* не завернуть. А в Самарканде, кому какое дело, сколько у него теперь жён и где они разбросаны по свету. Впрочем, кроме Ламзурь, у него пока всего лишь ещё одна жена, да и та живёт в Сарае*, где также не носит хиджаба*.
– Возьми ещё вот это, – сказал Камол ад-Дин своей новой жене и протянул ей золотую пластину, – Она может тебе пригодится.
– Что это? – спросила его Ламзурь.
– Это пайцза*, – ответил посланец*, – Она дана мне самим Амиром-ал-умаром* и служит пропуском куда угодно. Ни у себя в стране, ни здесь, с ней никто не вправе меня задержать, арестовать или куда-либо не пустить.
– Мне она зачем? – удивилась Ламзурь, – Я ведь теперь дальше Мохши* никуда не собираюсь. А здесь меня, как сестру Дархана, и так все знают.
– Всё равно возьми, – сказал Камол ад-Дин, – Она тебе, как ничто иное будет напоминать обо мне.
Распрощавшись с Ламзурь, Камол ад-Дин с Дарханом и другими членами миссии, отправились дальше на юг, по направлению Сарая*.
Глава 6: Возвращение князя Дмитрия в Москву и его поход на Рязань
Ордынцы* ушли из Москвы, оставив после себя голые каменные кремлёвские стены, разрушенные и в большенстве своём сгоревшие дома, а также другие хозяйственные постройки, неубранные трупы людей и животных, среди которых первых было значительно больше. Над сгоревшим городом и его окресностями ежедневно кружили стаи стервятников и ворон, которым в создавшихся условиях было чем поживиться. Не хотели от них отставать, особенно в первое время после побоища, и представители другой плотоядной фауны, лисицы, волки, шакалы. По всей округе разносился невыносимый смрад от разлагающихся трупов. Но не смотря на это, сразу после ухода ордынцев* сюда всё чаще и чаще стали наведываться из лесных чащоб оставшиеся в живых москвичи и жители близлежащих селений, которым, несмотря ни на что, посчастливилось избежать незавидной участи попасть в число убиенных во время недавно происходившего здесь кошмара. Каждый из спасшихся надеялся отыскать в здешних руинах какую нибудь годившуюся в хозяйстве вещь или инструмент, будь то лопата, топор, пила и прочий нехитрый домашний скарб. И с каждым днём, таких людей, здесь можно было наблюдать всё больше и больше. На трупное зловоние люди уже научились не обращать внимания. Чтобы не случилось, но жизнь продолжалась, а впереди зима, которую нужно было как-то пережить, хотя бы в условиях нехитрых лесных землянок. Русскому человеку подобные лишения не впервой, бывали времена и похлеще.
Как и в прежние дни, люди разгребали завалы, при этом, на чём свет стоит, ругая своего князя, бояр и воевод, оставивших их без защиты от бусурман* в самый критический момент. Но больше всего здесь доставалось Великому князю Дмитрию Ивановичу, которого лишь ленивый не считал предателем и трусом. Его прежние заслуги, в разгроме татар* двухлетней давности, теперь напрочь были забыты. То было давно и «неправда», говорили некоторые, а здесь вот оно, наяву. Растерзанная, разграбленная и сожжённая дотла столица, горы догнивающих трупов сограждан, и неизвестно где отсиживающийся князь, со всей своею «дружинушкой хороброй». Слухи по Руси расходятся быстро, правдивы они, али совсем неправдивы. Но даже если неправдивы, всёравно как в той поговорке, «дыма без огня не бывает», а значит, доля правды есть даже в самой невероятной лжи. И заключается она в основном, в сути происходивших событий. Вот и на этот раз. До людей уже дошли слухи о том, что тесть их князя, Нижегородский князь, якобы сумел откупиться от Тохтамыша, а князь Рязанский Олег Иванович, так тот и вовсе сумел обмануть татар* и направить их мимо своего княжества, как раз таки, на Москву. Насколько это правда, и как было на самом деле, это уже не важно. Главное, Рязань и Нижний, остались целыми и невредимыми, а вот Москва сожжена дотла. С этой истиной, уж точно не поспоришь! Так и рассуждал народ, разгребая завалы, когда к обеду из дальней рощи, что с северной стороны, показались неведомые всадники. Люди стали всматриваться вдаль, не татары* ли опять? Взял, да и выбрел сюда какой нибудь отставший от общего войска отряд. Тогда нужно всё бросать и сломя голову, бежать к ближайшему лесу. Свои-и, вроде как, послышалось из развалин, и даже наши, московские, явились, не запылились. Посмотрите на их стяги, наши вроде как, не Тверь, не Нижний, и тем более не Рязань. Когда шествие приблизилось почти к околице сгоревшего посада*, оно остановилось. Среди подъехавших всадников люди узнали своего князя Дмитрия Ивановича. Из развалин народ потянулся к околице, выстраиваясь в полукольцо вокруг князя и его передового отряда дружинников. Вскоре возле князя собралась приличная толпа. Собравшиеся угрюмо смотрели на Дмитрия Ивановича, но никто из собравшехся не произносил, ни слова. Складывалось впечатление, что толпа вот-вот набросится на князя и разорвёт его в клочья. Дмитрий Иванович тоже молчал, не решаясь начать разговор первым. Молчание затягивалось. Глядя на удручающую вокруг картину и нюхая запах разлагающейся мертвячины, пропитавшей насквозь всю округу, князь Дмитрий отчётливо понимал, что должен будет заговорить первым, и чем быстрее, тем лучше. Но словно комок чего-то подошёл к его горлу, не давая не то, что начать молвить слово, но даже нормально дышать.
– Дорогие мои сограждане, – сбивчиво начал он обращение, подбирая нужные слова, – Я осознаю свою вину и недостоин вашего прощения за случившееся. Я не смог вовремя собрать нужного войска и прийти к вам на помощь в нужный момент, когда враг жёг и разрушал наш прекрасный город, убивал и колечил наших людей, насиловал и издевался над вашеми жёнами, сёстрами и дочерьми, бросал в огонь ваших детей и грабил ваше имущество. Я искренне прошу у вас прощения, хотя прощать меня или нет, дело каждого из вас. Но не смотря ни на что, жизнь должна продолжаться, а мы с вами не должны быть сломленными. Первое, что должны мы будем сделать, захоронить похристиански тела наших погибших братьев и сестёр, родителей и детей, а затем заново отстроить наш прекрасный город. До зимы мы должны будем заново отстроить \хотя бы временные жилища, а со следующей весны начать строить добротные дома. Или если в зиму вы останетесь в холодных землянках, значительная часть из вас не выживет, особенно ваши дети. Подумайте об этом. Ответственным за захоронения москвичей мною назначается Василий Вельяминов, за приведение кремля в порядок, его неизменный комендант, Иван Собакин, за строительные дела, Иван Смола, а за продовольственное обеспечение, Дружина Зуевский. Всем, всё понятно?
– На какие шиши мы будем отстраивать город, у людей даже на самые скромные похороны средств не осталось, – возразил Василий Вельяминов, – Всё, что можно, татары* разграбили.
– С людей ничего брать не будем, – ответил Дмитрий Иванович, – И хоронить, и строить будем за счёт казны.
– Но откуда у нас казна? – опять стал возражать Василий Вельяминов, – Татарва ведь и её всю выгребла!
– А это уже не твои заботы, – резко оборвал его Дмитрий Иванович, – Казну временно вручаю Ивану Смоле, пока не прибудет истинный казначей. Ты Иван, пригляди за Василием, чтобы лишнего не растратил. У нас сейчас и в самом деле, каждый рубль* на строжайшем, пристрожайшем учёте!
– Я тебя понял, – ответил Иван Смола, – Не подведу.
– А сейчас всем по домам, или кто где пристроился, – распорядился Дмитрий Иванович, – С завтрешнего дня все сюда и приступаем к работе.
Народ, за всё это время не произнёсший ни слова, стал также молча разбредаться кто куда.
– Ставим полевые шатры прямо здесь, – распорядился Дмитрий Иванович.
– Может, отступим дальше? Где меньше воняет? – высказал своё соображение Дмитрий Михайлович Боброк-Волынский.
– Ничего, похороним людей честь по чести, запахи сами исчезнут, – не согласился с ним Дмитрий Иванович, – Москвичи заслужили, чтобы их похоронили почеловечески. А мы, чтобы запахи не нюхать, будем расторопнее.
Хотя и осталась у людей обида на своего князя, но тем не менее, с раннего утра следующего дня все они пришли на место сбора и работа закипела. Хорошо, что лес рядом, и доставлять его откуда-то издалека не нужно. С рабочим инструментом также больших проблем не было. Уходя от Москвы, ордынцы* собрали и унесли с собой лишь оружие, а насчёт рабочего инвентаря и инструмента, у них толи ума не хватило, толи в Орде* этого «добра» в избытке. А ведь изготовить его, в те времена было делом тоже не простым, учитывая недостаточные объёмы производимого железа. Но если с инструментом и инвентарём как-то дела решились, то нехватка рабочих рук, также давала о себе знать. Решено было разослать гонцов по городам и весям княжества, для сбора мастеров на восстановление города Москвы. С захоронением же погибших, а в большинстве случаев уже остатков их скелетов, вопрос решили достаточно быстро. Чуствуя за собой неладное, Василий Вельяминов старался доказать как можно большую лояльность своему князю, поэтому выполнил его поручение безупречно, потратив на это вполне сностную сумму средств. Захоронение восьмидесяти трупов, ему обходились в один рубль*. А в целом на похороны, им было потрачено триста рублей. Исходя из этого, княжеским окружением было подсчитано, что только убитыми, Москва в результате похода Тохтамыша потеряла двадцать четыре тысячи своих жителей, и это без учёта утонувших в реке Москве, трупы которых никто не искал, умершах от ран в лесных шалашах, землянках и прочих пристанищах, а также угнанных в Орду* невольников.
Через несколько дней после возвращения в Москву Дмитрия Ивановича, его посетил Серпуховской князь Владимир Андреевич. От него-то Московский князь и узнал подробности предательства своего соседа, Великого князя Рязанского Олега Ивановича. Сообщил Владимир Андреевич и о том, что чрезмерное лизоблюдство Рязанского князя перед Толхтамышем, тем не менее не помогло тому избежать нашествия ордынцев*. Оставив Москву, ордынское войско словно смерч прошлось по Рязанской земле. И если в чём Тохтамыш и пощадил рязанцев, то лишь в том, что не стал сжигать Переяславля-Рязанского. Ярости и возмущению Дмитрия Ивановича не было предела. Он собрал на совет своих самых близких воевод и бояр.
– Остаётесь здесь хозяйничать без меня, – поставил он в известность собравшехся, – Мы же с Дмитрием Михайловичем, идём на Рязань. Этого иуду больше прощать нельзя. Ему слишком дёшиво обошлось нападение на наши обозы, отставшие от нашего основного войска. Он тогда на коленях ползал, вымаливая пощаду и клянясь впредь на нас руки не поднимать. И что мы видим? Этот иуда мало того, что показал Орде* броды через Оку, так он ещё учил бусурман* как спасаться от наших тюфяков* и ручниц*. Нет, больше прощения этому иуде не будет.
– Иуду ты врядли застанешь на месте, – пытался вступиться за рязанцев Владимир Андреевич, – А вот людей рязанских, загубишь уйму причём зря. Оповещение у него налажено, нам лишь позавидовать. Орда* научила. Он со своей дружиной и Иваном Салахмиром у тебя из под носа уйдёт, как всегда уходил от всех, и от нас, и от Орды*, и от Литвы. А тебе лишь своё зло на его подданных срывать и останется. Они-то в чём провинились? Тохтамыш их и так до нитки обобрал. Если и ты последнее заберёшь, то рязанцы в зиму совсем выдохнут. Тогда у Орды* к нам откроется прямая дорога. Ты же этого не хочешь?
– Народ я до нитки обирать не стану, – слегка смягчил свой нрав князь Дмитрий, – Хоть что-то, да оставлю. А в том, что их грабят все, кому не лень, рязанцы сами виноваты. Давно нужно было гнать этого иуду в три шеи, как это делают со своими князьями в Новгороде. А раз рязанцы терпят своего же иуду, пусть терпят и лишения, которые благодаря ему, на них валятся. Я им буду предлагать переселяться сюда. Кто согласен, пусть берут скарб и сюда. Москву надо быстрее отстраивать заново, а некому. Мы потеряли больше половины москвичей. За счёт своих народившихся, сможем пополнить урон лишь лет через двадцать. Это недопустимо. Вот и будем пополнять за счёт Рязани. Кто желает, милости просим к нам. У нас тут тоже не мёд, и все мы это видим, но всё же лучше, чем в Рязани, на которую Орда* совершает набеги по несколько раз в год, по поводу, и без повода. Ну а кто не захочет, насильно тащить не станем, заберём, что найдём и покедово. Лободы у них много, зиму прозимуют. Почему из-за их иуды, люди и в Москве, и в Серпухове сейчас жрут лебеду, и лишены домов? И почему при этом должны жировать в Рязани? Где справедливость? И ещё, вот что. Это касается тебя Дмитрий Михайлович. Мастеровых людей будем забирать сюда всех поголовно, не спрашивая их согласия. Убогих и сирых, оставлять на развод Рязанскому иуде. Здесь ты, Владимир Андреевич, пожалуй прав. Земля Рязанская не должна пустовать. Нам Орда* в соседях не нужна, особенно её Червлёный Яр*, населённый всяким збродом. На подготовку к походу два дня. А теперь расходимся.
Собравшись, московская дружина Дмитрия Ивановича выступила в поход на Рязанское княжество. Она разделилась на две части. Одна часть дружинников, под предводительством Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского, преодолев у Серпухова брод через Оку, вторглась в западную часть княжества, двигаясь по направлению Тулы. Другая её часть, ведомая самим Дмитрием Ивановичем Московским, направилась через Коломну в сторону Переяславля-Рязанского. Как и предполагал Владимир Андреевич Серпуховской, дозорные Олега Ивановича Рязанского вовремя сообщили своему князю о приближении москвичей. Тот, как и раньше, взял с собой семью, наиболее боеспособную часть дружины для охраны и, оставив Переяславль-Рязанский на произвол судьбы, исчез в неизвестном направлении. Как и в прошлый раз с Тохтамышем, в городе для организации «отпора неприятелю», были оставлены верные князю бояре, Семён Софоньевич Батурин, а вместо погибшего Василия Глебовича Логвина, Епифан Семёнович Кореев.
Проходя через мелкие городки и прочие селения княжества, дружинники Дмитрия Ивановича творили над их жителями такое, что по сравнению с ними воины Тохтамыша могли показаться просто ангелами. Конечно тех, кто соглашался на переселение в Москву, просто брали, и вместе с домашним скарбом, который можно было взять в дорогу, просто препровождали до нового места жительства. Но было немало и таких, которые, несмотря на здешние нелёгкие условия существования, привыкли к своей хоть суровой и полной опасностей, но всё же родной земле. Заставить таких людей переселяться было не так-то просто. Не действовали никакие посулы и запугивания. Такие люди прямо заявляли, что лучше умрут, но на собственной земле. На них то и обрушивались, накопившиеся в последнее время гнев и ярость дружинников Московского князя. Их вначале обирали в полном смысле до нитки, затем методично избивали да ещё приводили в негодность и без того наладом дышащие жилища и другие хозяйственные постройки, не забывая при этом ломать всё, что в них, и при них находилось. Никакие увещевания на то, что рязанцы такие же русские люди, как и москвичи, не помогали. На вопросы, чем же они так провинились перед москвичами, дружинники Дмитрия Ивановича открыто отвечали, что лично они, ничем. Провинился их князь, перед Московским князем лично, ну и естественно москвичами, когда указывал татарам* дорогу на Москву. И таким вот образом, разрушая и грабя всё на своём пути, дружина Московского князя Дмитрия Ивановича подошла к Переяславлю-Рязанскому. Как и в прошлый раз Тохтамыша, встречать Московского князя с хлебом и солью, вышли его бояре, Семён Батурин и Епифан Кореев. Но щедрых подарков на этот раз не было. Просто потому, что разного рода «щедрот» в рязанской казне больше не осталось. Подарки для москвичей, конечно же собрали, но так, средней паршивости, как съязвил один из дружинников, находившихся непосредственно при князе Дмитрие Ивановиче. Как и в случае с Тохтамышем, впереди встречавшего посольства следовали три красавицы в кокошниках. В руках средней девушки был рушник*, на котором располагался хлебный каравай. Сверху на нём стояло блюдце с солью.
– Странно! И как такие красавицы после Тохтамыша уцелели, наверное, их глубоко в подвалах прятали, – произнёс ещё один, находившийся при князе дружинник.
– Таким москвичат рожать, было бы справедливей, чем глупомордых рязанцев, – усмехнулся другой его товарищ.
– Вот ты устранением несправедливости и займёшся, – шутя, произнёс слышавший разговор Дмитрий Иванович.
Бояре Семён Софоньевич Батурин и Епифан Семёнович Кореев шли чуть сзади девушек. А позади них тянулось шествие из ещё примерно пятнадцати человек, состоявшее из представителей духовенства и местной знати. Они-то и несли разного рода дары, что смогли собрать для Московского князя. Всадники, во главе с Дмитрием Ивановичем, остановились в нескольких шагах от девушек.
– А почему меня не встречает ваш князь? – побагровев, произнёс Дмитрий Иванович.
– Милости просим, гости доролгие, – произнёс славившийся своим красноречием боярин Семён Батурин, – Олег Иванович ждал вас с нетерпением, но в последний момент явился посол из Сарая*, и князь вынужден был отбыть в Орду*. Он нам велел ….
– Довольно врать, – прервал его Дмитрий Иванович, – Или ты сейчас откроешь мне ворота этого города, или я прикажу сжечь его дотла, вместе с жителями, как это недавно сделали с моей Москвой. А её как известно, сожгли дотла, и не без помощи вашего трусливого князя иуды.
– Но ты за это ответишь перед ордынским царём*, – попытался возразить Семён Софоньевич.
– Терять мне уже нечего, что смог потерять, я потерял, – твёрдо стоял на своём Московский князь, – Тохтамышем ты меня не напугаешь. И потом, ордынский царь* далеко, а я рядом. Пока до него дойдёт, что здесь произошло, от всех вас несчастных обугленых головешек не останется. А теперь прикажи открыть мне ворота, ибо я не намерен долго ждать и уговаривать.
– Но ты. Ты ведь русский человек. Ты не можешь сделать зла своим соотечественникам, которые перед тобой ничем не провинились. А с нашим князем Олегом Ивановичем, разбирайся после его возвращения, люди то здесь причём?
– Для особо тупых повторяю, я больше не намерен ждать, пока вернётся этот ваш подлый трус, – ещё с большим раздражением продолжал Дмитрий Иванович, – А ваши люди виноваты лишь тем, что продолжают служить этому ничтожеству. Но я кстати, намерен и им помочь. Всем желающим, я предложу переехать в Москву. Да, она сейчас разрушена. Но при помощи, в том числе и здешних мастеров, мы её быстро восстановим. Она станет ещё краше, чем была. Кто же не захочет пойти со мной, насильно тащить не собираюсь. Всё равно рано или поздно сбегут. Кстати, вам обеим я тоже предлагаю переехать в Москву. Боярское достоинство я вам сохраню, со всеми почестями и привилегиями. Думайте. А теперь, срочно открой мне ворота, иначе, терпение моё лопнет, и тогда ….
– Ладно, ворота я прикажу тебе открыть, – согласился боярин Батурин, – А вот служить тебе не могу. Я служу не Олегу Ивановичу. Я служу Рязанской земле. Ей служил весь наш род. А что Олег Иванович? Сегодня он есть, а завтра его нет. Поэтому, я останусь здесь, как бы тяжело мне на своей земле не жилось. А если Богу будет угодно, чтобы я погиб, значит, так тому и быть. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Так издревле говорили на Руси.
– Я тоже, пожалуй, с ним соглашусь, – промолвил Епифан Кореев.
Василий Батурин подал знак рукой и главные ворота Переяславля-Рязанского открылись. Дмитрий Иванович со своими дружинниками въехали в город. Там князь расположился на подворье Олега Ивановича. Московские дельцы* и дружинники сразу-же принялись за работу. Они заходили в каждое подворье, отбирали там здоровых* людей* и предупреждали, что те должны будут взять с собой для последующей отправки в Москву. Принадлежность к сословиям не имела значения. Годились и смерды*, и закупы*, и холопы*, и челядь*. Семьи отобраных для переселения, также должны были следовать вместе с главами семейств. Желание на переселение спрашивали не у всех, а лишь у тех, кто с виду не внушал доверия. В основном больных, нищих, убогих и мало на что способных. Но таким, как правило, и переселение не предлагалось. У родовитых же бояр, как правило, спрашивали, земские они, или княжьи. По распоряжению Дмитрия Ивановича, земские бояре подлежали переселению, княжьи нет.

