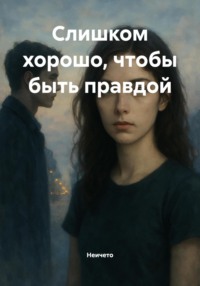Полная версия
Скорбная песнь истерзанной души
– Тебе не нужно моё имя, – слышал я её голос. – Просто помни, что я не Malice Mizer.
С этими словами она скрылась меж серых зданий. Я больше не гнался за ней. Я стоял, озадаченный, растерянный, сбитый с толку, обескураженный. Подул холодный ветер. Я тяжело вздохнул, съёжился, сунул руки в карманы, посмотрел на небо. И увидел там луну. Она была необычайно большой и жёлтой – такой же жёлтой, как свет фонарей поезда. В ушах прозвучал резкий, противный гудок и её последние слова: «Просто помни, что я не Malice Mizer».
«Что всё это значит?» – подумал я и неспеша отправился домой, напрочь забыв, что у меня больше нет дома.
Глава 17
Пришёл я уже под утро. Забрался через окно. Что было непросто. То есть сложнее, чем обычно. Но я это сделал. И забравшись, сразу сбросил одежду, прошмыгнул в постель и погрузился в сон, едва успев накрыться одеялом.
Разбудил меня дед. Слишком рано, чтобы я мог ясно соображать и чувствовать себя нормально.
– Ну что ж, – произнёс он совершенно спокойным голосом, таким, который у него редко бывал, – вещи я твои собрал. Отправляйся теперь на все четыре стороны.
– Чего? – я продрал глаза, голова у меня гудела. – Ты о чём вообще?
– Я тебе сказал ночью: если уйдёшь, можешь больше не возвращаться. Ты, правда, всё равно вернулся… Но это ладно. Главное, чтобы сейчас ты убрался отсюда. Не хочу тебя видеть. Ты позоришь меня перед всем честным народом. Я больше не намерен это терпеть.
Мы долго спорили и пререкались. Однако, ни к чему не пришли. Дед настаивал на своём:
– Покинь мой дом.
– И куда же я пойду?
– Не знаю. Не моя забота. Делай, что хочешь. Ты ведь этого как раз и добивался.
Я встал с постели, оделся, взял с собой всё самое необходимое и вышел из комнаты.
В коридоре меня встретила мама. Я сразу понял, что в ней что-то переменилось. Она была полна решимости. Но было неясно, какого рода та решимость. Стало ясно через мгновение, когда мама сказала:
– Подожди меня. Я пойду с тобой.
Я не возражал. Возразил дед:
– Нет, никуда ты не пойдёшь. Тебе нужен покой и уход. А с ним… – он махнул на меня рукой и не закончил фразу.
– Это мой сын. Если ты прогоняешь его, значит, прогоняешь и меня. И раз прогоняешь, значит, нам тут в самом деле не место. Мы уходим.
Мама повернулась ко мне и сказала:
– Подожди меня внизу.
– Я хочу попрощаться с дядей, – ответил я.
– Хорошо, – она кивнула и ушла в свою комнату. Дед пошёл за ней.
Дядя Сё лежал в постели с книжкой в руках. На нём были бордовые трусы, чёрные носки, натянутые до голеней, белая рубашка с расстёгнутыми пуговицами, майка и длинный пёстрый шарф.
– А-а-а, молодой человек! – воскликнул он, завидев меня, и перевернул страницу. – Чем я могу помочь на этот раз?
Я слегка замялся. Лишь с завистью оглядывал его комнату.
«Вот кому всё нипочём, – думал я. – У него тут словно другой мир, подчиняющийся каким-то иным законам».
– Да ладно! – сказал дядя. – Выкладывай. Не тушуйся!
– Мне нужна гитара, – как-то виновато (не знаю, почему) проговорил я.
Дядя закрыл книгу, бросил её на кровать, встал и подошёл ко мне.
– Гитара? – удивился он. – Вот это да! – на обложке книги было написано: «Олдос Хаксли – Двери восприятия».
– Неужто хочешь повторить путь отца?
Я молчал.
– Думаешь, у тебя лучше получится?
Я молчал. И смотрел ему в глаза. Я чувствовал, как злость постепенно наполняет меня.
– Знаешь, – сказал дядя, – а ведь и в самом деле может получиться лучше. Стоит попробовать. Хорошая, я думаю, затея.
Он лучезарно улыбнулся. По-доброму так, что можно было почувствовать душевное тепло его, сокрытое где-то глубоко, тепло такое, которым не каждый может похвастаться. К горлу у меня подступил комок, свело живот. Я изо всех сил сдерживал подступавшие слёзы.
– Я помогу тебе. Будет у тебя гитара. Не беспокойся. Только подождать придётся недельку. Это ничего?
– Ничего, – ответил я и прокашлялся. – Спасибо.
– Ну и замечательно, – дядя подошёл к своему столу. – Ты, судя по разговорам, что я невольно услышал, покидаешь наш дом сегодня.
– Угу, похоже на то.
Дядя открыл ящик стола.
– В таком случае, у меня для тебя есть подарок. Подойди.
Я подошёл.
Дядя вручил мне книгу – «Счастливая смерть» Альбера Камю и три компакт-диска – сборник хитов группы The Doors, альбом «Souvlaki» группы Slowdive и «Wish» The Cure.
Я поблагодарил его, мы распрощались. Внизу, у выхода, меня ждала мама. При ней были её чемодан и сумочка272. Дед стоял рядом, говорил ей, что, если она вдруг захочет вернуться, он будет рад.
– Да, пап, – ответила она, хватая чемодан, – конечно, спасибо.
– Я помогу тебе, – сказал дедушка, взяв чемодан.
На улице нас ждало такси. Я сразу сел на заднее сиденье, дедушка положил чемодан в багажник. Они с мамой перебросились ещё парой фраз. А потом она села в машину. Я нацепил наушники. Включил The Doors. Мы возвращались к себе. Я предвкушал окрыляющую свободу, которая была, как мне казалось, уже невероятно близка.
***Трудно было поверить, что прошло аж целых четыре года273. Выйдя из такси, я поглядел на родной дом. Возникло ощущение, будто я его и вовсе не покидал. Вечность прошла или мгновение – никогда нельзя точно сказать.
Сказать можно было только одно:
«Ну наконец-то, боже!» – и выдохнуть при этом с облегчением, войдя внутрь.
Знакомые запахи, знакомые виды радовали глаз, душу274, сердце.
Но не только виды и запахи радовали меня. Было что-то ещё… нечто более тонкое, абстрактное, метафизическое, родом из иного измерения – измерения не как некоей параллельной реальности, а скорее в математическом смысле, или близкого к оному. Как если бы существовала линия координатной плоскости, которую человеческий глаз неспособен разглядеть, существующая при этом объективно. Зримая разумом, а не органом чувств. Вот так, пожалуй. Только то моё чувство, ощущение, что я испытал, когда вернулся домой впервые за долгое время, разум вряд ли мог “узреть”. Он мог его разве что осмыслить. И это, наверное, есть одно и то же. Но не в этом конкретном случае. Мне очевидно и совершенно ясно, что, осознавая и описывая это чувство словами, я не достигаю предельной точности. Я бью куда-то рядом, не более того; и это лучшее, на что я могу рассчитывать.
Как я уже сказал, то было чувство, ощущение – ощущение, будто я обрёл утраченное, нечто такое, чего очень не хватало. Это, как если бы я был часами, висящими на стене, у которых не хватает одной шестерёнки – и потому они не ходят. И тут вдруг кто-то нашёл давно потерянную шестерёнку – или обзавёлся новой – вставил её в часы и завёл их заново. Вот так я чувствовал себя в тот момент. Старыми часами, что вновь пошли. Я обрёл гармонию в душе275. Так это можно назвать, я полагаю.
А потом вновь пришла ночь. Я лежал в своей постели. И меня начала грызть тоска276. Мне вспомнились посиделки с Тори, прогулки с Германом, все эти пейзажи окраины, уродливые в своём стремлении к прекрасному и прекрасные в своей уродливости; вспоминались все эти дурацкие хождения в патруль, общий дух убеждённости в совершении правого дела, который казался мне болезненным и чужеродным; вспоминались дедушка и дядя, вспоминались ночные прогулки и встреча с прекрасной незнакомкой. Я и не подозревал, сколько всего обрёл за то не слишком уж продолжительное время (если сравнивать с тем, сколько я провёл в доме отца), проведённое у дедушки. Я был поглощён своим неприятием перемен, сопротивлением им, стремлением вернуть всё обратно. И вот я вернул. Но ощущал теперь почему-то лишь тоску277. Неизъяснимую, необъятную.
«Что это со мной?» – в ужасе вопрошал я неизвестно кого. Я будто подхватил лихорадку. Меня всего трясло, болела голова, виски сжимало, сердце быстро билось. Я повернулся на бок, к стене, и, съёжившись, кутался в одеяло. Я не мог заснуть. Однако, главный ужас состоял в том, что мне, судя по всему, хотелось обратно.
«Это пройдёт, – убеждал я себя. – Ты просто запутался. Помни: тебе там было плохо, ты хотел домой. Сейчас ты дома. Всё будет хорошо».
С этими мыслями я наконец заснул.
***Рано утром меня разбудила мама. Она хотела отвезти меня в школу. Добираться туда самостоятельно я больше не мог. Вернее, это было бы слишком трудно. Дожидаться одного переполненного автобуса, пересаживаться в другой, тратить на дорогу целый час, а то и больше… Возвращаться в прежнюю школу тоже не представлялось возможным. Ибо до выпуска оставалось не так уж долго. Так что было сразу ясно, что каждое утро меня будет подвозить мама. Мы это даже не обговаривали. Но в то утро я пожаловался на плохое самочувствие, и она позволила мне остаться дома.
Пару часов я провалялся в постели. Потом стал разбирать свои вещи, раскладывать всё по местам. Что-то ещё оставалось у дедушки, поскольку мы покинули его довольно спонтанно и в некоторой спешке. Я из-за этого не особо горевал, ведь знал, что скоро они вернутся, как вернётся всё на круги своя. Включая моё самочувствие. Насчёт последнего я, конечно, ошибался.
Умывшись и позавтракав, я отправился в кабинет отца. Это место непреодолимо тянуло меня к себе. А я не особо-то и сопротивлялся. Открыл дверь да вошёл. И сразу ощутил пустоту в душе278, в которую провалился. Она окутывала чёрным пламенем. И я всё горел, горел, никак не сгорая дотла.
«Вот его проигрыватель, на котором он больше никогда не послушает музыку», – я подошёл к проигрывателю, открыл крышку, сунул вилку в розетку. – Где бы он ни был, ему наверняка его не хватает.
А вот пластинки…», – я подошёл к полке с пластинками, принялся вытаскивать одну за другой, рассматривал их, искал группу Malice Mizer. Но не нашёл.
Поэтому, когда в руках у меня оказалась «Louder than bombs», я выбрал её. Вернее, не то чтобы “выбрал”. Я просто почувствовал, что хочу поставить именно эту пластинку279. Не знаю, почему. Может, меня привлекла обложка. Оранжевая, на фото изображена девушка. Она смотрит прямо в камеру, головой опираясь на согнутую в локте руку, меж пальцев которой зажата сигарет. У неё пронзительный, глубокий взгляд и короткие волосы.
«Кто она? – думал я. – Где теперь? И чем занимается? Что чувствует? Чем заполняет собственную жизнь? Устраивает ли её то, как всё сложилось?»
Я никогда этого не узнаю. Придётся смириться. И выражением такого смирения явились пять коротких движения. Сперва я достал пластинку из конверта. Это раз. Затем положил конверт на стол. Это два. Поставил пластинку. Это три. Включил проигрыватель. Это четыре. И сел за стол. Это пять.
Звучала музыка, а в голове вертелись мысли, образы. Прекрасная незнакомка в длинном чёрном платье возникала передо мной. Она слушала музыку в наушниках и танцевала.
«Как твоё имя?» – спрашивал я.
Она, как и прежде, отвечала загадкой: «Просто помни, что я не Malice Mizer».
«Да я помню, – говорил я. – А что толку? Понятное дело, ты – не Malice Mizer. Они – группа. Ты – девушка. Ты одна. И что? Как мне это понимать?»
Она танцевала. Я размышлял.
«А почему, собственно, её имя так важно? – спрашивал я себя. – Почему я хочу его знать, почему хочу увидеть её? Что в ней такого? Что-то ведь есть… она меня волнует, возбуждает. Она пробудила во мне нечто, перевернула весь мой мир с ног на голову. Как же так вышло? Что она такого сделала? Что дарует ей такую способность?»
Как всегда – сплошные вопросы без ответов. Я даже и не пытался найти ответы, знал, что это бесполезно. Знал я также, что и без этих ответов вполне смогу (на этот раз, во всяком случае) обойтись.
«Мне нужно увидеть её хотя бы ещё раз. Остальное не так важно».
***Как в альбоме сменяли друг друга песни, так в разуме моём одна мысль, один образ приходил на смену другому. И посреди этой вереницы я пребывал в тоске280 и смятении. Я думал о Тори, Германе и Роберте. Больше всего переживал за Тори. С Робертом мы и так давно не виделись, с Германом увидимся в школе. А вот Виктория…
«Сейчас, – говорил я сам с собой, – она, наверное, гадает, чего это меня нигде не видно, почему я не захожу к ней, не возникаю в её окне и не зову погулять. Нужно будет завтра же к ней наведаться».
Я думал о маме. Из проигрывателя доносились слова, которые потрясли меня:
I would rather not go
Back to the old house
There’s too many
Bad memories
В тот миг я понял, почему мама не хотела сюда возвращаться и с каким трудом ей это далось. Думал о том, что сейчас она наверняка мучается.
«Но назад дороги нет», – считал я. Вот ведь дурак! Стоило поговорить с ней… Хотя, я даже и теперь-то с трудом представляю такой разговор. Но нужно было что-то сделать. А я не сделал ничего. И всё шло своим чередом.
Глава 18
Я постепенно заново привыкал к жизни в родном доме. Больше времени проводил теперь в кабинете отца, чем в своей спальне. Иногда мне даже казалось, что сейчас вот-вот кто-нибудь (непонятно только кто) постучит в дверь, чтобы позвать меня к обеденному столу и напомнить, что пора бы выходить. Но я такую мысль мгновенно стряхивал с себя, как промокшая кошка стряхивает с шерсти воду.
Маму я видел совсем редко. Правда, когда всё же видел, она казалась чуть более счастливой… или правильней будет сказать более умиротворённой, чем в доме у дедушки, где мне тоже нечасто приходилось её видеть. Она больше не проводила все дни у телевизора в сплошных рыданиях, а занималась домом. Она вдохнула в него новую жизнь, везде прибралась, восстановила после пожара свою мастерскую. Дедушка приходил ей помогать. Я обычно старался не выходить из комнаты, запирал дверь, чтобы не видеться с ним (хотя знал, что он и близко не подойдёт к моей комнате; просто мне так было спокойнее). Но иногда я слышал его голос. А иногда и не слышал, ведь был в наушниках. Он перестал для меня существовать. Как и я для него.
Я навестил Тори. Рассказал ей о случившемся. Она порадовалась за меня, но в то же время была немного опечалена.
– Ты ведь этого и хотел, – сказала она мне. – Так что здорово. Надеюсь, ты теперь будешь лучше себя чувствовать. Хотя, – тут же прибавила она, – мы наверняка станем меньше видеться. Это вот грустно.
– Я буду к тебе обязательно заглядывать, – пообещал я. – Ты мой друг. Я не хочу тебя потерять.
Она улыбнулась. И на душе281 мне стало легче.
– Можно тебя обнять? – спросила Тори.
И я без лишних слов обнял её.
Я виделся с людьми, говорил с ними, слушал их, но все мои мысли были о девушке в длинном чёрном платье. В голове без конца вертелись сказанные ею слова, я видел её перед собой, видел её лицо – бледное, как луна, её движения, полные притягательной грации, вновь мелькали передо мной, я чувствовал на спине холод железнодорожных рельсов и жар страсти в груди.
Всё это сделало меня каким-то рассеянным. Я начал забывать, куда положил ту или иную вещицу, мог пройти квартал и не заметить этого, мог проехать свою остановку. Раньше со мной такого почти не бывало. А тут… чуть ли не постоянно! Друзья забеспокоились. И я бы, наверное, тоже забеспокоился, если бы не…
– Эй! – щелчок пальцами. Вокруг темно. – Эрик! – чей это голос я слышу? Что происходит? – Я с тобой говорю или где?..
Постойте, я знаю этот голос. Но как же… О!.. Понимаю… Я настолько глубоко погрузился в собственные воспоминания, что они стали реальнее окружающей действительности. И вот поблекла серость могильных камней и неба над моей головой. Я отчётливо вижу теперь дорожку перед домой, голубое небо, яркое солнце и крыльцо, на ступеньках которого сидим я и Роберт.
– Я с тобой говорю! – возмущается он.
– Да-да, я тут, слушаю тебя.
Он усмехается. На нём красная кепка козырьком назад, бежевые шорты, тёмно-серая футболка с принтом The Doors. Огромный Джимбо Моррисон, за спиной которого крошечные Манзарек, Крюгер и… барабанщик. Как звали барабанщика? Я спрашиваю об этом Роберта.
– Кого?
– Да вот, его, – тычу в футболку на портрет того, чьё имя не могу вспомнить. Роберт смотрит на него. Потом на меня.
– Об этом сейчас поговорить хочешь? Серьёзно?
– Да нет, конечно, нет. Увидел их просто, всех по именам помню, кроме барабанщика.
Я смотрел прямо перед собой, сложив ладони вместе. Смотрел на соседский дом, на детей за невысоким забором, играющих вместе. Это были мальчик и девочка лет пяти или около того. Двойняшки, видимо. У обоих светлые, золотистого оттенка волосы. Одеты примерно одинаково. Белые маечки различались только цветом рисунка. Синие бегемотики у мальчика, розовые – у девочки. Мальчик держал в руках зелёную машинку с прицепом, уныло висящим в воздухе, тряс её и что-то говорил девочке. А та качалась на деревянной лошадке и что-то ему отвечала. Мимо проехала низкая и длинная машина цвета металлик с тёмными стёклами. Тогда всё казалось таким нереальным, словно это всегда было воспоминанием. Но сейчас, когда это действительно стало воспоминанием, всё видится отчётливо и кажется гиперреальным, оттиснутым в сознании.
– Я забыл, на чём остановился, – сказал мне Роберт.
– Так начни сначала, – ответил я. – Где пропадал всё это время?
– Ну, – вздохнул он и встал передо мной, – я был в спонтанном паломничестве.
– Спонтанном паломничестве? – я посмотрел на него, щурясь от солнца. – Это как?
Он подумал, затем ответил:
– Это как, когда отец говорит своей семье: «Пойду куплю сигарет», а в итоге больше никогда не возвращается.
– Понял, – я поднялся со ступеней крыльца, отряхнул брюки282, встал рядом с Робертом, сунув руки в карманы. – А теперь давай без аллегорий, серьёзно и подробно, – сказал я.
– Ладно, – ответил он.
Вместе мы зашагали по улице. Прям как в старые дни. Только чувствовал я себя теперь совершенно иначе.
***Я шёл рядом с Робертом, глядя себе под ноги. Старался слушать внимательно, предельно концентрируясь на словах, повторяя некоторые из них про себя.
Из его длинного рассказа я узнал, что пока душа283 моя пребывала в смятении, а сам я чувствовал себя брошенным и всеми покинутым284, он, по его собственному выражению, «жил полной жизнью».
– Началось с того, что я на лето опять уехал к дяде…
– А где живёт твой дядя? – полюбопытствовал я.
– В Вермиллионе285. Четыреста километров отсюда. Приятный городок на самом деле. Тоже горы, как и здесь, но зелени побольше. Летом там вообще красота. Я был бы не прочь туда переехать однажды. Но не о том речь сейчас…
– Так-так…
– Короче, уехал я туда, и ни на что особо не рассчитывал. Это должны были быть обычные каникулы – в меру весёлые, в меру скучные, унылые; обычные, в общем; ничего такого, что могло бы изменить жизнь – если бы я не познакомился кое с кем.
– Ты про Жизель?
– Нет, – отмахнулся он. – Ну, про неё, конечно, тоже, но я имел в виду другого человека.
– И кого же?
– Парнишку одного. Зовут Эрнест. Ему двадцать три. Нас Жизель одним вечером познакомила. У них там своя компашка, они вечно все вместе тусуют… Так вот Эрнест этот музыкант, и он, как оказалось, тоже из Ребеллиона.
– А в Вермиллионе он что забыл?
– Вот слушай дальше.
– Всё, понял, молчу.
– В Вермиллион он пришёл пешком.
– Пешком?!
– Ты обещал помалкивать.
– Да-да, прости.
– Он пришёл пешком. Где-то добирался на попутках. Но основной путь проделал на своих двоих. Тут ты, наверное, хочешь спросить: «Зачем?» Сам он мне сказал, что однажды утром вышел из дома и осознал: жизнь его пуста и бессмысленна. Он тоже спрашивал себя: «А зачем?»
«Зачем я просыпаюсь по утрам?»
«Зачем каждый день делаю то, что делаю?»
«Для чего всё это?»
«Чтобы что..?»
Я поразился тому, насколько мне это знакомо и подумал: «Сплошные вопросы без ответов…». Мне захотелось посмотреть на этого Эрнеста, перекинуться с ним парой фраз.
– В один из таких дней, – продолжал Роберт, – он просто не вернулся домой. И в универ свой он тоже не пошёл. Хотя ему оставалось учиться-то всего ничего. Но он всё бросил. И просто шёл да шёл. Пока не вышел из города.
– Это казалось таким естественным, – рассказывал несколько дней спустя уже сам Эрнест. Нас познакомил Роберт, ясное дело. И втроём мы теперь шли по тем же, всем нам хорошо знакомым улицам. Я слушал, старался помалкивать, не задавая лишних вопросов, и не слишком погружаться в мысли о прекрасной незнакомке, которая всё никак не выходила у меня из головы. – Таким же естественным, как дышать, наверное, – говорил Эрнест. – Не знаю, какое ещё сравнение подобрать. Но у меня не было ни страха, ни усталости, ни сомнений. Я чувствовал лишь, что впервые в жизни делаю что-то правильное. Ходить каждое утро на занятия и думать о том, куда это всё приведёт меня в будущем – вот, что действительно пугало меня. Пугало невероятно сильно. Ну а ты, Эрик? – спросил он вдруг меня. – Думал, что станешь делать, когда школа закончится?
– Да не знаю, – растерявшись, ответил я. – Наверное и не думал… как-то… не знаю… рановато об этом думать, мне кажется.
– А потом поздно будет. Так что лучше задуматься сейчас. И помни: либо ты принимаешь в жизни решения, либо покорно принимаешь то, что подсовывает тебе судьба. Выбирай.
– Ну ладно, ладно, – вмешался Роберт. – Хватит об этом. Рассказывай дальше. Про паломничество.
– Да… – Эрнест потирал висок. – В общем, шёл я и шёл. И будто прозрел. Никогда столь отчётливо не видел я окружающий мир, саму жизнь, её ритм, движения… Дуновение ветра, шелест листвы и растений, взмах крыльев птицы, камни, песок, холмы, горы, безоблачное небо, жирную муху, жужжащую и парящую перед моим носом… Ну и всё такое прочее.
– Ты давай ближе к делу, гражданин поэт. – подгонял Роберт. А Эрнест ответил:
– Тут нет незначительных деталей друг мой. Важна каждая мелочь286.
– Ну хорошо.
– Наберись терпения.
– Понял, понял.
Роберт замолчал. Эрнест рассказывал дальше:
– Близилась ночь. В карманах у меня было немного денег. Ну и небольшая сумка на плече ещё висела. Там ручки, тетрадки всякие. И всё на этом. К вечеру похолодало. А я в одной футболке только. Лето ведь! Я же говорил, что дело было летом? Дело было летом. Начало июня. Я впервые в жизни в незнакомом городе. Совсем один. И некому мне помочь. Но я не отчаивался. О-о-о нет, господа! Нисколько! Без лишней бравады вам скажу. В сердце моём попросту не было места ни печали, ни отчаянию, ни сожалениям, ни горестям. Я был опьянён происходящим, был опьянён своей свободой. Вам случалось ощущать пьянящую свободу? Не отвечайте. По глазам вижу, что да. И это хорошо. Значит, вы осознали, что некогда пребывали в заточении. Может, пребываете в нём и сейчас, но вот это как раз не так важно. Потому что раз свобода вас пьянит, значит, вы умеете её ценить. Это признак благородного и достойного человека. А что значит быть опьянённым свободой или чем-либо ещё? Это значит, быть безумным. И вот в безумии своём я брёл по тёмным улочкам чужого города. В лужах отражался лунный свет, который сам есть отражение света солнечного. Этим я и грелся. Точнее, мыслью о том, что где-то очень далеко, в чёрном и безмолвном космосе вращается огромный огненный шар, от которого исходят лучи света, что помогли возникновению жизни на этой планете. И как луч света преодолевает огромное расстояние, пронзая землю, питая её и всё живое на ней теплом, так я, рождённый людьми, что были рождены от других людей, а те от третьих и так далее, в самое начало мироздания, шагаю теперь по земле, по дороге, кем-то построенной, я вижу здания, кем-то воздвигнутые, я вижу других людей, рождённых когда-то от других людей, что были рождены другими людьми, а те третьими… И я знаю: однажды все эти люди умрут. Умру и я. Здания будут разрушены. Солнце и звёзды однажды погаснут, луна… с ней тоже, наверное, что-то случится. Но придёт на замену, вероятно, что-то ещё. И может кто-то где-то когда-то тоже будет идти, как и я, и думать обо всех и обо всём на свете. Будет видеть отражённый свет какой-нибудь звезды в небе, отражённый в лужах, и скажет: «Да-а!.. Это и есть сама надежда. Ведь надежда – последнее прибежище отчаявшегося горе-мечтателя…
– Надежда, что ты, наконец, перейдёшь уже к самой сути истории – вот моё последнее прибежище! – завопил Роберт, встав посреди дороги и воздев руки к небу.
Я рассмеялся. Эрнест шёл дальше.
– Мы уже почти там, – заверил он. Что прозвучало двусмысленно. Будто мы шли к какому-то конкретному месту. Хотя мы просто бродили и слушали его рассказ. Но он шёл не по улицам Ребеллиона, он бродил по закоулкам своей памяти и вёл нас по ним. А мы за ним едва поспевали.
Но тут вдруг я случайно бросил взгляд на другую сторону улицы. И там я увидел большую (пожалуй, слишком большую для такого скромного магазинчика) голубую вывеску, на которой чёрными буквами было написано: «SALARO» – «Sound Is All Around». В голове у меня в тот миг вновь прозвучали слова: «Просто помни, что я не Malice Mizer». И я обомлел. И напрочь забыв обо всём, пошёл к магазину. Роберт тут же завопил: