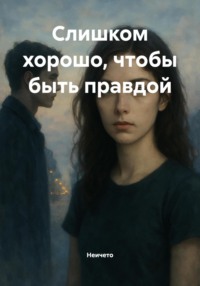Полная версия
Скорбная песнь истерзанной души
«До земли не так уж далеко, – подумал я. – И если схватиться за оконную раму, повиснуть на ней на вытянутых руках, а затем отпустить, то можно приземлиться без какого-либо вреда для себя. Земля, к тому же, на лужайке деда была довольно мягкой. Прыгать на асфальт я бы вряд ли решился даже с такой высоты. А на лужайку можно. Главное, не торопиться, не спешить. Все движения должны быть плавными. Повис на раме, выпрямил руки. Выждал пять секунд или около того. Отпустил руки. Приземлился. Согнул сразу же ноги в коленях, присел на корточки, вытянул руки вперёд, выдохнул. И всё. Полный порядок. Можно идти.
Приятного в этом, конечно, мало. Боль отдаётся в голенях и коленях265. И разумеется, меня несколько раз, несмотря на всю осторожность, ловили дружинники. Иногда прям возле дома, иногда чуть дальше, бредущим сквозь кусты и деревья. Передавали деду. Он меня наказывал. Я опять сбегал. И так снова и снова. Это превратилось в устоявшийся порядок наших жизней, наших взаимоотношений. Как смена времён года.
И вот однажды, холодной ноябрьской ночью, после очередного наказания, когда мне казалось, что я достиг предела, я вновь сбежал из дома.
Но на сей раз я вышел через дверь, а не через окно. Вышел глубокой ночью, примерно в три часа. Я шёл тихо, но не особо старался скрыть своих намерений. Я был готов к тому, что дед выйдет и попытается остановить меня. Вместе с тем, однако, надеялся, что этого не случится.
Я спускался по лестнице на первый этаж, когда услышал позади шаги. В темноте его фигура казалась ещё более грозной. Я стоял на нижних ступенях, облачённый в чёрное, с рюкзаком за спиной. Он стоял у двери, ведущую в его спальню, в одних трусах и майке. Мы смотрели друг на друга, оба не шевелились. Сиплое дыхание деда нарушало тишину. От напряжения я словно обратился в камень. И желая расколдовать себя, я совершил единственно возможное для меня движение – движение губами и языком:
– Можешь хоть убить меня, но я ухожу, – мой голос, как всегда, подводил меня, он звучал не так твёрдо, как мне хотелось. Это и заставило усмехнуться деда. Во всяком случае, я так думаю. В ответ он сказал мне:
– Надо же! Кто-то, я гляжу, набрался смелости.
Он ждал моего ответа. Но я молчал. И тогда он сказал:
– Уйдёшь сейчас – назад не возвращайся.
Я повернулся и пошёл, так ничего ему и не сказав. Ступени скрипели под моими ногами. Каждый скрип – как удар ножом по сердцу. То страх бил меня. Сильнейший страх. Но назад дороги не было266. И вот уже дверь закрылась за мной. Всё осталось позади. Я чувствовал себя особенно паршиво. И двинулся в сторону вокзала.
Глава 15
Дневник отца потряс меня. Прочитав его, я впервые в жизни понял, что можно совсем не знать человека, с которым живёшь под одной крышей, ближе и роднее которого, как казалось, нет для тебя никого на свете. Можно полностью знать его и в то же время не знать совсем. Можно думать, что знаешь, но на самом деле не знать. Конечно, тут замешана и сама особенность личности отца. Однако, такое сплошь и рядом. Это знакомо многим. Было бы знакомо едва ли не каждому, наверное, если бы все люди на свете действительно стремились к знанию. Обычно же люди стремятся всего-навсего сохранить убеждённость того, что они хоть что-то знают, и чтобы никто даже не пытался эту убеждённость нарушить.
В дневнике отец, помимо прочего, писал о своей неутолимой страсти к музыке, переходящей от страницы к странице в одержимость. Меня это удивило в ту пору. Папа всегда был заядлым меломаном, но я не замечал в нём всепоглощающей любви к музыке. Страницы его дневника убеждали меня всё сильнее и говорили, что я плохо смотрел, раз не замечал чего-то такого. Или, быть может, его меломания являлась тлеющим угольком былой страсти? Что-то заставило отца позабыть о музыке, отодвинуть её на второй план.
Продираясь сквозь заметки, содержащие в себе названия различных групп и записи с мыслями о покупке гитары и создании собственной группы, я, ближе к концу, обнаружил отчаяние, горькое и беспросветное.
«Не выйдет из меня музыканта. Я совершенно бездарен. Идей – великое множество, но мне не хватает таланта и мастерства, чтобы их реализовать. Что же я буду с ними делать? Хочется броситься с обрыва вместе с гитарой. Устал. Завтра отдохну, а потом начну искать работу. К чёрту всё».
Примерно так писал отец. И это был как удар наотмашь. Похлеще, чем у Гектора и Вальтера. Я ходил в патруль, а сам витал где-то очень далеко, всё думал о дневнике, не замечал ничего вокруг. Можно было бы без проблем обчистить мои карманы – этого я бы тоже не заметил. В голове моей вертелись слова:
«Не выйдет из меня музыканта… хочется броситься с обрыва вместе с гитарой».
«Он мечтал стать музыкантом, – мысленно говорил я себе. – Но почему он никогда мне об этом не рассказывал? Об этом хоть кто-нибудь знает?»
Мама, само собой, знала. Но я не спросил её только потому, что мы вообще не разговаривали, я редко её видел. И уже привык к этому. Так что было бы странно прийти к ней и начать расспрашивать о муже, смерть которого она по-прежнему оплакивала.
Я пошёл к дяде Сё. Была холодная осень. В такое время он всегда возвращался. И лежал теперь на кровати в своей спальне, о чём-то размышлял, набирался сил для следующего своего паломничества.
Он принял меня у себя. Был вполне доброжелателен, хоть и немного рассеян (позже я узнал, что это обычное его состояние).
– Присаживайся вон туда, – дядя небрежно указал на стул возле пустого письменного стола, пока сам шёл обратно к кровати.
Я сел. Он плюхнулся в постель, закинул ногу на ногу и стал глядеть в потолок.
– Так чем же я могу тебе помочь, мой добрый друг? – произнёс он так, словно обращался к призраку.
– Эм… да… я хотел спросить, хорошо ли ты знал моего отца?
– Твоего отца, – протянул он по слогам. Вопрос мой его ничуть не удивил. А я ждал от него более живой реакции. Но дядя просто начал рассказывать, демонстрируя, по всей видимости, свою словоохотливость, тщательно (ну или почти тщательно) скрываемую от всех своим пристрастием к жевательным снэкам всех мастей, занимавших его рот, пока он находится в компании – большой или очень малой – людей, которые ему не слишком интересны:
– Впервые некто по имени Эдвин Миллер повстречался мне весной девяностого года. Весной я обычно люблю гулять. Всё вокруг цветёт, оживает… Видеть весну – всё равно что наблюдать сотворение жизни. Разве можно пропустить такое? Вот я и брожу по своим любимым местам, особенно живописным и красивым.
Я возвращался домой. И на подходе, прям посреди улицы, неподалёку от перекрёстка, меня встретила сестра. Она бежала мне навстречу, вся такая счастливая… Завидев её, я подумал: «Господи, спаси всех нас! Случилось явно что-то непоправимое».
И я оказался прав (кто бы сомневался!). Стоило мне увидеть её глаза… О-о-о! Такой взгляд ни с чем не спутать! Это взгляд влюблённой женщины.
Я знал Эда… вернее, я слышал о нём… ходили они пару раз на свиданки и всякое такое. Но мне и в голову не приходило, что всё так серьёзно. Пока я не увидел её в тот день. Она подошла ко мне, схватила за плечи и стала что-то лепетать да щебетать… не помню уже… спрашивала зачем-то, как у меня дела… не могла перейти к самой сути сразу. А потом такая, мол, хочу тебя кое с кем познакомить. И велела вести себя прилично. Я в тот момент как-то оскорбился даже. Разве я когда-то вёл себя неприлично? Ну да ладно…
– Дядь, извини, конечно, но можно ближе к делу? – попросил я.
Он и тут, мне кажется, оскорбился. Всем своим видом как бы говорил: «Разве могут быть несущественные детали? Разве может быть что-то лишним? Всё на свете есть “дело”. Мы не можем от него отдалиться. А значит и приблизиться к нему нельзя. Ибо ближе просто некуда».
Пришлось слушать весь его рассказ. На это ушло несколько дней, потому что я не мог позволить себе праздно валяться и ничего не делать, как дядя (чем он, конечно, вызывал во мне сильную зависть). То дед позовёт, то уроки делать пора. И я уходил. А потом возвращался. И он всё рассказывал, рассказывал…
– Да, можно, наверное, сказать, что я знал его хорошо, – дядя стоял у приоткрытого окна и докуривал сигарету. Он был одет в чёрное. За окном лил дождь. Виднелось серое небо. Листья на деревьях пожелтели. Я стоял у входной двери и, по обыкновению своему, молча слушал. – Он мне нравился. Не потому, что писал неплохие книжки. Я и прочёл-то всего одну, – дядя бросил взгляд к столу – там, в одном из ящиков, видимо, лежал томик отцовского романа. – Нет, за книги его любили все остальные. А мне просто нравилась эта его очаровательная манера стремиться быть нормальным и от этого становиться ещё более странным. В хорошем смысле слова. Все это замечали, но практически никто не мог объяснить, правильно истолковать такую его особенность. Именно это, я полагаю, делало Эдвина Миллера таким одиноким. И это же в итоге свело его в могилу.
Я был, вероятно, единственным, одним из немногих, кто оказывался способен правильно его понять. Поэтому, я думаю, он указал моё имя в той своей записке. Я её, кстати, храню до сих пор, – дядя бросил окурок в приоткрытое окно267, затем закрыл его и зашторил. Подошёл к столу. Покопался в ящиках и достал оттуда лист А4, на котором было написано последнее послание отца миру: «Не открывай. Позвони Сё», с гордостью его демонстрируя.
Не знаю, о чём он думал, но вызывал во мне лишь горькую, тошнотворную смесь гнева, печали и отвращения. Я ничего не говорил, ибо не хотел грубить. Ведь мне ещё предстояло выведать у дяди кое-что. Но он, судя по всему, и без слов всё понял и, сунув листок обратно в ящик, поспешил объясниться:
– Я его храню, потому что это единственное доказательство нашей дружбы… и того, что я хоть что-то значу в этом мире268. У нас с ним ни фотографий не осталось, ни каких-то памятных вещей. Всё только здесь, – он постучал себе лбу двумя пальцами левой руки. – Правда, это и важнее всего, пожалуй. Нужны разве какие-то доказательства дружбы? А если и нужны, то кому?.. Не знаю… С Эдвином всегда чувствуешь себя как-то странно. Ореол «странности» окружает его, и перекидывается на тебя, подобно пламени, если ты слишком сближаешься с ним. Начинаешь чувствовать себя призраком. Будто нет тебя вовсе. И ты, мой юный друг, чувствуешь то же самое. Я знаю, я вижу. Не имею представления, правда, как ты с этим справляешься. Но мне вот приходится искать какие-то артефакты, доказательства того, что я действительно здесь есть. Когда я сплю, то не понимаю, что сплю. И если я сижу перед камином сейчас, то как понять, что я не сплю и мне всё это не снится? Лично мне – Сёрену – одного cogito недостаточно. Вернее, оно меня не устраивает. Потому что я слишком глуп, наверное. Мне нужно что попроще, понагляднее. Как, например, та записка, которую он оставил на двери в свой последний день. «Не открывай. Позвони Сё». Вот оно – моё cogito. У которого, правда, есть иная сторона. Более тёмная, что ли. В смысле, мрачная, не столь для меня приятная. Ну, ты понял… Блин, опять курить хочется. Какая дурацкая всё-таки привычка… Никогда не кури, ясно тебе? От сигарет одни только беды.
С этими словами дядя взял стул, поставил у окна, сдвинул штору, приоткрыл окно, вытянул из пачки, лежащей на подоконнике, очередную сигарету, снова закурил и продолжил свой рассказ269:
– Так вот… с другой стороны, мне кажется, он написал моё имя – а не чьё-то ещё – только потому, что я не был для него особенно важен, он не беспокоился о моих чувствах. Хотя, когда я только узнал об этом… – дядя Сё замолчал, силясь подобрать более точные слова. – В общем, нелегко мне пришлось тогда, – сдался он. – Пусть для остальных это прошло незамеченным. Прям как наша с ним дружба. Но так и должно быть, я считаю. Нечего разгуливать перед всеми с душой нараспашку270. Держи при себе свои чувства, мысли, страхи, чаяния, надежды и мечты. Делись только с самыми близкими, важными людьми – теми, кто этого действительно достоин. И будешь в полном порядке, парень.
– Ты знал, что отец собирался стать музыкантом? – спросил я, тем самым как бы игнорируя всё им сказанное.
Дядя обернулся ко мне. Он сделался хмурым. И хмурость эту будто кто-то вылепил на его лице. Но она очень быстро исчезла. Ибо передо мной опять возник затылок дяди, покрытый длинными вьющимися волосами.
– Да, – послышался его голос, – я об этом знал. Так случайно вышло на самом деле, – дядя докурил сигарету, вновь закрыл и зашторил окно, сел на край кровати. Я мог видеть его лицо, его глаза. Он теперь казался чуть менее рассеянным. – Эдвин не особо-то любил об этом говорить, как я понял. Собственно, напрямую мы ни разу и не беседовали на эту тему. Думаю, он и сам смутился, когда вдруг, неожиданно для себя самого, ляпнул про гитару свою… не помню, с чего и откуда это возникло… мы просто бродили по городу, созерцали, что называется, действительность, говорили о всяком. И он такой типа: «Дупло в том дереве напоминает мне о резонаторе моей гитары» – дядя рассмеялся. – Да, конечно, он не так сказал. Но что-то в таком духе, я уж и не помню толком, и не заставляй меня вспоминать… Это был обычный день, обычный разговор, обычная прогулка. Я ему в ответ: «А ты на гитаре играешь, что ль?» Ну и слово за слово, он рассказал о том, что когда-то мыслил себя вторым Ником Дрейком, Рори Галлахером или кем-то в этом роде. Только ничего у него не вышло. Он записал дома одну кассету. Смог даже несколько копий сделать. Отправил их местным лейблам… ну, то есть в дома мамаш, у которых жили все эти воротили музыкального бизнеса. Так всё было устроено в те годы. Записью, как это часто бывает, заинтересовался лишь один убогий, никому не нужный соплежуй. Звали его Евгений Чернов. Может, ты о нём слышал. Сейчас у этого «соплежуя», кстати, своя радиостанция; а лейбл с самым идиотским названием в истории – «Пулемёт Чернова» – расположен в огромном, пусть и уродливом, здании близ мэрии. Мамочка им наверняка гордится. Если ещё жива, конечно.
– И что? Отцом-то он занялся?
– Отцом?.. А, ну да… Чернов что-то там суетился, запись вроде бы распространил, распиарил. Продали пару тысяч копий. В независимых и мелких журналах вышли отзывы. Они были не особо-то лестными. Хотя и не плохими, не прям чтобы разгромными, знаешь. Но этого хватило, чтобы убедить папашку твоего, что музыкант из него никудышный. Да только правда в том, что не стоило так вот сразу с плеча рубить, стоило дать себе шанс-другой. Он был вполне себе ничего… Да, до Галлахера далеко было, не спорю. Но я бы такое иногда себе включал. Под нужное настроение вполне себе здоровская штука.
– А ты слышал запись? – спросил я несмотря на то, что ответ был очевиден.
Дядя кивнул.
– Он её хранил у себя в кабинете. В одной из коробок, которых там целая куча. Мне долго пришлось упрашивать его. С первого раза не вышло. Но в итоге он сдался. Отдал мне кассету. Сказал: «Послушаешь дома. У меня нет кассетника», – дядя усмехнулся и добавил: – Забавный он был парень, конечно… Я взял, послушал. Потом вернул ему обратно. Впечатлениями своими поделился. Но Эд не поверил мне, я думаю. Журналюги местные словно мозги ему промыли, собаки такие. И я себе с той поры за правило взял: «Не доверяй журналюгам». Слава богу, они мне редко попадаются.
«Интересно, почему отец хранил запись, раз думал, что она плоха?» – такой вопрос вертелся в моей голове. Но дяде я его не задал. Поэтому сейчас у меня голове вертится другой вопрос: «Почему я не задал ему тот вопрос?» Сплошные вопросы без ответов. Или есть ответы? Если подумать, наверное, всё же есть. Но нужны ли они мне? Нет. Отец хранил всё в подряд, ведомый своей пагубной сентиментальностью, передавшейся мне от него. Я тоже храню многое из прошлого. Разница между нами в том, что я храню предметы, что связывают меня с другими людьми. А он хранил то, что связывало его с тем, каким он был когда-то. Ну, в основном… были там, конечно, предметы, связанные с другими людьми, да. Но их было не так уж много. У меня же на втором этаже вряд ли найдётся хоть что-то, связанное со мной самим и никем больше. И это вышло непреднамеренно. Ибо я осознаю сей факт только сейчас, размышляя об этом. Получается, что мы, в конечном итоге, просто те, кто мы есть. Хотя становимся мы ими как раз в процессе сбора всяких вещичек, в процессе наполнения своих коробочек и тёмных комнат, расположенных в конце коридора второго этажа, скрытых и запертых от посторонних глаз.
Мне больше ничего не нужно. Но я всё ещё жив. Отец давно умер. Что же нужно было ему? Сплошные вопросы без ответов. Или?..
Глава 16
Ночь была прекрасна, но я этого не замечал. Я был разбит, растерян, сломлен. Множество вопросов мучило меня. Ответов не находилось. И я просто шёл, шёл… прям как тот парень из легенды об озере. Мне тоже хотелось исчезнуть из этого мира без следа. Это желание завладело мной, оно вело меня сквозь тьму ночную ко тьме ещё более глубокой.
На вокзале даже в такой поздний час обитали люди. Кто-то спал на скамейке, кто-то сидел и курил, а кто-то беспокойно расхаживал туда-сюда, бормоча какой-то бред.
– Не пускайте его в дом, не пускайте его в дом, – я услышал эти слова только потому, что, когда подошёл к вокзалу, на моём плеере закончился заряд батареи. Я забыл зарядить его накануне. Оказавшись погружённым в музыку города, я почувствовал себя ещё хуже. Голова начала кружиться. Мне казалось, либо меня сейчас стошнит, либо я упаду в обморок, либо всё вместе, а может что похуже. А тут к тому же этот псих продолжал бормотать, и от слов его у меня холодок бежал по спине: – Лезвие на солнце блестит, на солнце лезвие блестит. Хлынет кровь рекою… Жарко!.. Как жарко! Пожар, который всё… кровь! Хлынет кровь! Не пускайте его в дом, не пускайте его в дом, не пускайте его в дом! Всё сгорит дотла.
В каждом безумце есть пророк и в каждом пророке безумец. Впервые те слова его мне вспомнились, буквально возникли предо мною, рухнули в сознание откуда-то из глубокой-преглубокой мрачной тьмы, как кирпич, упавший с крыши, когда не стало Ванессы. Я поразился тому, сколь они оказались точны. Я даже попытался найти того человека. Я сумел вспомнить его облик: смуглая кожа, торчащие во все стороны короткие тёмные волосы, высокий лоб с морщинами, шрам над левой бровью, похожий на басовый ключ, большие глаза, пухлые губы, борода. Он стоял под фонарём. Вернее, ходил от фонаря к фонарю, что горели над платформой. Одетый в широкие коричневые брюки, белую рубашку, от белизны которой мало что осталось и коричневую распахнутую жилетку, он пальцами рассекал воздух, как если бы рисовал что-то на большом невидимом холсте или дирижировал. Его пальцы были толстыми, большими, длинными, хотя сам он был худощав и низок. К этим чужим для него пальцам прилипло что-то чёрное, оно проникло в трещины, коими пальцы были усеяны. Его шрам над бровью сиял белым светом, он походил на луну в этом своём сиянии. Этот человек источал безумие, которым, казалось, можно заразиться. Я искал его. И конечно же, не нашёл.
Железнодорожная платформа была пуста. Рядом со зданием вокзала она хорошо освещалась. Но чем дальше отходишь от здания, тем более тёмной становится платформа. Под ногами моими пролегали рельсы. Вокруг – молодые деревья, кустарники. И больше ничего.
«Ходят ли поезда в четвёртом часу утра? – спросил я себя, распластавшись на рельсах. Я видел небо и звёзды. Я чувствовал холод – и сердце моё понемногу успокаивалось. В руках я держал скомканные наушники и разрядившийся плеер. – Наверное, ходят, – отвечал я сам себе. – Должны ходить. Ведь людям вечно нужно куда-то попасть, вечно куда-то они спешат».
Я закрыл глаза и, погрузившись в сон наяву, продолжал говорить с собой.
«Вот я не буду никуда спешить, – успокаивал я себя. – Теперь уж точно. Не стану я жить, как они. Не хочу я этого… Лучше так – навстречу вечности, да со всего размаху…»
В тот миг послышался вдруг шелест листвы. Но ветра не было. Я открыл глаза. И увидел её. Девушку в длинном чёрном платье с рукавами. Она была бледной, как луна и плыла по небу. Создание столь прекрасное не ступает на грешную землю, бережёт чистоту своих ног – чтобы в час предсмертный явиться обессилевшему, измученному тяготами жизни юноше и отвести его туда, где ему самое место – среди звёзд, среди солнца, среди луны и древних богов. И весь мрак ночи льётся из волос её, питает меня, дарует прозрение, бережёт от всех бед и страхов.
Раздвинув ветви совсем юных деревьев, она, кружась и танцуя, двинулась через железную дорогу, мимо меня. Рельсы затряслись подо мной. Но лишь едва-едва. Это значило, что скоро прибудет поезд. А я наблюдал за девушкой и не мог от неё оторваться.
– Эй! – позвал я её, чуть приподнявшись. – Ты чего там делаешь?
Она шла дальше, не обратив на меня никакого внимания.
«Не слышит», – подумал я и позвал громче.
– Э-э-эй! Чего делаешь, говорю?!
Она обернулась. Вынула из уха наушник.
«И правда не слышала, – подумал я. – Настоящая, значит. Не привиделась мне».
– Музыку слушаю, – спокойно ответила девушка. Её ничуть не удивило, что я лежу тут на рельсах, – танцую. – А ты что делаешь?
– Да вот… отдохнуть прилёг, знаешь ли…
– Ну понятно. И как отдыхается?
– Ничего так, вполне неплохо.
– Правда?
– Ага. На звёзды гляжу, думаю о всяком. Тут тихо и спокойно.
– О-о-о… – с любопытством произнесла девушка и подошла ко мне. – Дай-ка я тоже попробую. – она легла рядом.
И я удивился тому, как всё преобразилось. Меня перестали беспокоить распри с дедушкой, стычки с Гектором, Вальтером и всеми прочими. Стыдно признаться, но даже смерть отца вдруг отошла на второй план. Я перестал его оплакивать. Сердце пронзала теперь не скорбь, не горечь утраты, а что-то иное; и тьма будто отступила, и осветилось всё вокруг.
Я не понимал, в чём дело. Знал лишь, что виной всему та девушка, лежавшая рядом со мной на рельсах, рассматривающая звёзды.
– Что слушаешь? – спросил я её.
– Марису Мизеру, – ответила она.
– Чего-чего? – вслух удивился я и привстал теперь так, что нависал над нею. Рельсы затряслись чуть сильнее. Вдали послышался гудок.
– Это японская группа. «Марису Мизеру» – это по-японски, собственно. А так, они – Malice Mizer. Распались, к сожалению, – эти слова она произнесла действительно с грустью, – довольно давно уже. Великая группа. Последний альбом – шедевр настоящий! Ты просто обязан послушать
– Хм… я никогда о них не слышал. А в «Саунде»271 есть их записи?
Она задумалась и после ответила:
– Вроде бы нет. Мне брат их диск подарил в прошлом году. А откуда взял, я и не спрашивала даже. В «Саунде» бываю частенько. Там из японского только X-Japan, Luna Sea и the GazettE.
Я слушал её и смотрел не отрываясь. Лишь договорив, девушка в чёрном платье заметила то, как я, окоченев, уставился на неё. Она смущённо улыбнулась, привстала и произнесла:
– Поезд, кажется, уже близко.
Мы были объяты жёлтым светом фар, рельсы тряслись, слышался грохот колёс.
– У тебя глаза зелёные, – сказал я.
Она посмеялась, прикрыв ладонью рот, и ответила:
– Ве-е-рно! Но если мы сейчас не уйдём отсюда, ты их больше никогда не увидишь.
Я быстро встал и помог ей подняться. Мы ушли с рельсов в последний момент. Вагоны проносились мимо и вместе с ними неслись в голове моей мысли:
And when a train goes by
It's such a sad sound
Девушка смотрела на вагоны, я смотрел на неё. И когда мы снова могли слышать друг друга, она сказала:
– Ну, что ж, мне, пожалуй, пора, – она двинулась в направлении противоположном тому, из которого явилась. – Спасибо за эту ночь. Было интересно, – она шла спиной вперёд и махала мне.
– Погоди! – крикнул я и последовал за ней. Девушка продолжала идти. На ходу я спросил: – Как тебя зовут хоть?!
– Не скажу!
– Почему?!
– А зачем тебе знать?
– Не хочу, чтобы эта встреча прошла бесследно.
Мы шли мимо вокзала в сторону центра города. В одном её ухе оставался наушник. В нём звучала музыка, по всей видимости. Ибо она кружилась в танце, удаляясь от меня. Между нами оставалось довольно приличное расстояние, и мы всё перебрасывались фразами.
– Что плохого во встречах, которые проходят бесследно?
– Некоторые из них просто не должны быть такими.
– И как узнать, какие должны, а какие – нет?
– Сказать мне своё имя – вот как! – выкрикнул я и остановился возле памятника «семёрке Весанто». Он был слева и чуть позади. От него вверх уходила широкая улица, которая разветвлялась перекрёстком. Огни города сияли – они не гаснут никогда. Стояла тишина. Только звук наших шагов и голосов нарушал её. Ни единой души не было поблизости. Девушка в чёрном платье покидала меня. Она кружилась в танце, изящно вскидывала руки, разводила их, склоняла голову. Она была луной и делала меня небожителем.