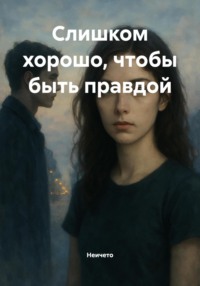Полная версия
Скорбная песнь истерзанной души
– А если он вдруг внезапно появится? – спросил я.
– Сможешь сбежать через заднюю дверь, – ответила Тори. – Ну или спрячу тебя где-нибудь.
Она усмехнулась и протянула мне чашку свежезаваренного чая; и после добавила:
– Да просто поздороваешься, – Тори налила и себе чаю, поставила чашку на тумбу и вновь села на стул, – перекинетесь парой фраз и всё. Папа у меня человек адекватный, спокойный, понимающий. Не станет гоняться за тобой с топором и криками: «Что ты сделал с моей дочерью?!» (она изобразила, как бы это могло быть) просто из-за того, что мы сидим у нас дома и мирно болтаем.
– Ну хорошо, – я привстал немного и сделал глоток. – Но вдруг ты плохо его знаешь? – предположил я.
– Собственного отца-то?.. –
– Ага, – сказал я и пристально взглянул в глаза Тори. Улыбка стёрлась с её лица.
– Вообще-то да, – начала она, – иногда мне кажется, что я его совсем не знаю, а он не знает меня, да и не стремится узнать.
Мы говорили очень долго246. Об отцах и раннем детстве, о том, как оказались в этом районе, о самом районе и жизни в нём, говорили о друг друге. Наступил поздний вечер. Алексей Лавлинский так и не появился дома, а мой дед, как я узнал позже, искал меня по всей округе (и не сумел найти в доме по соседству); мне потом досталось за то, что я без предупреждения покинул свой пост и ушёл неизвестно куда так надолго.
В тот день, когда я вышел в дружину и встретил Тори после того, как дедушка-сосна под негласным надзором всех соседей задал мне трёпку, она сказала мне:
– Ох и досталось же тебе вчера!..
– Да мне уж не привыкать, – ответил я. – В последнее время отчего-то всем хочется набить мне морду. Дед родной – и тот не сдержался.
– Barbarism begins at home, right? – с улыбкой заявила Тори247, пока мы шли вниз по улице.
– Ну-у-у-у… наверное… – несколько растерянно отвечал я.
Тори остановилась. Я продолжал идти. Потом заметил, что её нет рядом, остановился и обернулся.
– Что? – спросил я.
– Только не говори мне ради бога, что ты не слушал The Smiths!..
Я молчал.
– Ну? Так слушал или нет?
– Слушал, слушал, – испуганно оправдывался я. – Только не понимаю, к чему это всё…
– А что именно ты у них слушал?
– «The Queen Is Dead».
– А «Meat Is Murder»?
– Нет, такое не знаю.
– Ужас! – воскликнула Тори. – Сегодня зайдёшь ко мне. Отца не будет. Я тебе кое-что покажу…
– А мне покажешь?! – возник из ниоткуда один из дружков Вальтера, широко улыбаясь своей кретинской улыбкой, поднимая брови.
Всё, что Тори ему показала – это лишь средний палец; и следом послала его куда подальше. А он, смеясь, действительно удалился в неизвестном направлении. Смех его постепенно затухал среди домов, машин и деревьев.
Вечером мы опять сидели у неё дома. На этот раз она села в кресло, а я, как всегда, расположился на диване. Тори взяла с полки шкафа виниловую пластинку, достала её из конверта, конверт протянула мне, а сама поставила пластинку и включила проигрыватель. Заиграла музыка.
На обложке был изображён солдат. На шлеме у него было написано: «Meat is murder». Я подумал: «Интересное заявление для солдата». Я представил, как он бежит по полю битвы с винтовкой в руках и этой надписью на шлеме, как стреляет из окопа, убивая одного, второго, третьего и как кто-то убивает его самого. Он падает навзничь, роняет оружие, шлем слетает с его головы, а глаза его – погасшие и широко раскрытые – обращены к небу, в котором парят чёрные вороны и в полёте складываются в надпись: «Meat is murder». В следующий миг они ни с того, ни с сего вспыхивают огнём и прахом падают на землю. Прах засыпает тело солдата – так, что его почти не видно. Остаётся только его шлем и надпись на нём, что несколько стёрлась. Одно слово значится теперь на нём: «Murder». И всё.
Звучала первая песня. Я слышал слова, что западали мне в душу.
I want to go home
I don't want to stay
Give up education as a bad mistake
Но мелодия, словно тупая игла, не могла пробить даже кожу. Так что я оставался просто заинтригован, чувствуя себя на пороге великого открытия. И чувства мои меня не подвели.
«Nowhere fast» являлась полным отражением того, что творилось в моей душе в последние месяцы жизни. И я испытал шок: кто-то совсем мне незнакомый, бесконечно и во всех смыслах далёкий человек разделял мои чувства и с такой невероятно предельной точностью их описал, передал. Я был тёмной комнатой, в которой внезапно и впервые за долгое время включили свет.
And if the day came
When I felt a natural emotion
I'd get such a shock
I'd probably jump in the ocean
And when a train goes by
It's such a sad sound
No, it's such a sad thing
– Ты как? – смеясь спросила меня Тори, когда отгремели финальные аккорды последней песни.
– Это что сейчас такое было? – в ответ спросил я; и выглядел при этом явно совершенно ошеломлённым и пришибленным.
– The Smiths! – только и ответила она.
Потом сняла пластинку с иглы и сунула обратно в конверт, который забрала у меня из рук, а конверт вместе с пластинкой вернула на полку. И плюхнулась затем в кресло с чувством выполненного долга.
Тори осознавала всю важность момента. Она совершила для меня невероятно важное открытие. Она стала моим Прометеем. И отдельным удовольствием для неё было наблюдать за тем, как открытие это отразится на мне, и что я буду делать с ним в дальнейшем. Она улыбалась – и то была улыбка ангела, улыбка божества, полная снисхождения, но лишённая высокомерия.
И вновь мы много часов провели за разговорами. Правда, в тот раз говорили не о родителях и окружающей нас действительности, а об искусстве и о нас самих, о том, что для нас важно, что вызывает страсть и неподдельный интерес. Так я узнал, что Тори два года провела в музыкальной школе, откуда потом слёзно просила отца забрать её, ибо занятия не доставляли ей никакой радости, лишь мучали. Отец, нехотя, согласился. И долгое время Тори не могла даже слушать музыку. Из-за этого переключилась на литературу, потому что: «Ну, надо же как-то дни коротать».
– Помогал и телевизор, само собой, – рассказывала Тори. – Мне ведь всегда нужна динамика, знаешь? Такой уж я человек. Музыкальный, в общем-то! Как ни иронично. Просто я не хотела этого признавать, даже думать об этом не хотела. Ну и, короче говоря, металась я от телевизора к книжному шкафу, – Тори осеклась. – Ну, образно, конечно. На таких-то широких просторах особо не разгонишься, не помечешься.
Я издал смешок и понимающе кивнул. Она продолжала:
– Неплохие деньки тогда были. Отец ещё не связался с твоим дедом придурошным. Без обид.
– Да ничего… я к нему сам любви особой не питаю, сама понимаешь.
– …И не заставлял меня выходить ни в какой патруль, или как там у них это называется… короче говоря, сидела я дома спокойно, смотрела по телеку всякие дурацкие передачи. Все эти, знаешь, викторины, ток-шоу и прочая муть.
– Ага.
– Но иногда, кстати, хорошие программы тоже попадались, – Тори вся оживилась, привстала, чтобы подогнуть под себя ноги, не отрывая при этом взгляда от меня. – Всякие документалки про животных, про историю. Хотя, я их часто не смотрела. Потому что после школы от подобного меня просто воротило. Это если по ночам только… Так что больше всего я любила фильмы. Их крутили на паре-тройке каналов как раз в те часы, когда я возвращалась домой, и до самого вечера, когда пора было садиться за домашку. Я почти каждый день смотрела по два фильма. «Пёс-призрак: путь самурая», «Мертвец», «Вечное сияние чистого разума», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», – она всё продолжала сыпать названиями фильмов, попутно сопровождая их именами актёров, режиссёров и своими предельно краткими, обрывистыми впечатлениями, подытожив в конце одной фразой: – Я влюбилась в кино по уши.
– Книги мне тоже нравились, – продолжала говорить Тори. – Жаль, закончились они слишком быстро. У отца их не так много, – она бросила короткий взгляд на книжный шкаф справа (если смотреть с её перспективы) от неё. – Я прочла «Тетрадь кенгуру», «Исповедь маски», «Кафка на пляже»248…
Дальше я говорил о себе, а она слушала. Но в какой-то момент разговор всё равно вернулся в плоскость обыденности.
– Это ты вчера среди ночи вывесил верёвку из окна? – спросила Тори.
– Да, – удивился я. – А что?
– Да то, что ты балда! Кто ж так делает, дурья твоя башка?!
– Чего ты взъелась-то?! – я испуганно поглядел на Тори, поджал под себя ноги (неосознанно копируя её повадки). Она никогда прежде так не говорила со мной.
– Да беспокоюсь ведь о тебе! – почти кричала Тори, вскакивала с кресла и садилась обратно снова и снова, взмахивала руками, словно отправляла птиц в полёт. – Верёвку было видно! И если бы её заметил твой дед, к примеру, тебе бы сильно досталось. Хорошо, что именно я раньше всех её заметила и успела от неё избавиться…
– А-а-а!.. Значит, это была ты!.. – я растёкся по дивану бесформенной жижей и с облегчением вздохнул.
– Ну да, я. А ты думал кто? – Тори успокоилась и снова стала собой.
– Я думал, дед или кто-то из дружины… о тебе ни за что бы не подумал.
– Почему ты всегда зовёшь их дружиной?.. Ладно, можешь не отвечать. В общем, да, убрала я твою верёвку…
– Спасибо тебе за это большое. Ты меня спасла. Хотя, когда уходил, мне почему-то казалось, что верёвку на самом деле не видно. Хорошо-хорошо, почти не видно. Только не смотри на меня так. Мне от этого не по себе.
Она засмеялась и скорчила рожицу.
– Погоди… – сказал я спустя некоторое время. – А как тебе удалось избавиться от верёвки? Она же была к батареи привязана. И чтобы…
– Знаешь, – начала Тори, встала с кресла и села рядом со мной, – я бы могла рассказать, но… может, сам догадаешься?
Я крепко задумался. Тори терпеливо ждала и не сводила с меня взгляда. Я услышал, как к дому подъехала машина, в окнах промелькнул красный цвет. Двигатель смолк. Хлопнула дверь. Послышались шаги.
– Ты забралась по ней же к окну, отвязала верёвку, спрыгнула вниз, взяв верёвку с собой, и ушла.
– Именно! – воскликнула Тори, щёлкнув пальцами.
– Серьёзно?! – вновь удивился я.
А Тори ответила:
– Да нет, конечно! С ума сошёл, что ль? Как ты себе это представляешь?!
И в тот самый момент распахнулась дверь. Следом возникла тишина, нависла, словно тень, над нами.
Глава 13
На пороге стоял хозяин дома, Алексей Лавлинский. Синие брюки, коричневые туфли, кремовая рубашка с коротким рукавом; волосатые руки, в каждой из которых он держал по небольшому бумажному пакету, серебряного цвета часы на левом запястье. Громоздкие и по всей видимости дешёвые. Даже если они были на самом деле дорогими, всё равно выглядели, как дешёвые. На носу очки в толстой, чёрного цвета оправе. Они ему совсем не шли. Оправу стоило сменить. Но никто ему этого не говорил. То ли вежливости, то ли из равнодушия.
Старался быть вежливым (но не равнодушным) и я. Вскочил с дивана, стоило ему войти. Тори лишь повернулась в его сторону.
– Здравствуйте! – сказал я, стоя чуть ли не по стойке смирно.
– О! – поразился Лавлинский. – Доброго вечера, молодой человек! Так у нас гости? – он поспешно оставил пакеты в кухне, вернулся к нам, переступив через дорожку паркета, отряхнул ладони друг о друга, вытер их об брюки и протянул одну мне. Я пожал её. Лавлинский взглянул на Тори и сказал:
– Здравствуй, доча! – он поцеловал её в макушку.
– Привет, пап, – ответила она.
Её отец оказался вполне неплохим парнем. Не то чтобы я думал иначе… но определённые предубеждения на его счёт у меня всё же были, никуда от этого не деться249.
Но при личном знакомстве этот (в чём-то) несуразный с виду отец-одиночка вызывал довольно приятные впечатления. Он не был лишён харизмы, обаяния, он излучал благостное спокойствие, доброжелательность. Однако именно это, как ни парадоксально250, вызывало чувство не самое приятное. Казалось, если каким-то образом251 проникнуть в (хотя бы) чуть более далёкие глубины его истерзанной252 души253, то можно будет обнаружить там нечто тёмное, мрачное, зловещее.
Лао254 стоял и жал мою руку. Он смотрел на меня… нет, скорее изучал, пытался понять, кто я есть на самом деле. Но глазам своим этот учёный-социолог не особо доверял. И стремился потому к более тщательному анализу объекта.
– Ну как у вас тут дела? – спросил он, отпустив мою руку, осматривая дом, как бы ища следы того, чем мы с занимались Тори (аккурат) перед его возвращением.
– Да всё хорошо, – отвечал я, – спасибо. Мы тут музыку слушали, знаете ли…
– О, правда?! Здорово! Что слушали?
– The Smiths, – ответила Тори. – Он раньше никогда не слушал «Meat Is Murder».
– О! – это было, по всей видимости, его любимое восклицание. – Неужели? И как ваши впечатления, молодой человек?
Я на секунду задумался. Этой секунды Тори хватило на то, чтобы вмешаться:
– Он был потрясён, – сказала он, вставая с дивана.
– В самом деле? – с лёгкой улыбкой уточнил Лао
– Да, – подтвердил я, несколько смутившись.
Дальше пришлось смущаться ещё сильнее. Ибо мы некоторое время (которое в такие моменты, конечно, кажется, вечностью, не меньше) стояли молча, глядя друг на друга, улыбаясь, вздыхая и прикрываясь междометиями.
– Пум-пу-пу-у-ум… – Лао опирался о кухонную тумбу и глядел по сторонам.
– Да-а-а… – я держал руки за спиной и глядел себе под ноги.
– Угу-у… – Тори перемещалась с пятки на носок и обратно.
Ну а потом Лао пригласил меня остаться на ужин.
– Не скажу, что будет вкусно… – скромничал он, – но обещаю рассказать, как я познакомился с The Smiths.
– Я бы с радостью… но боюсь, дедушка мне не позволит.
– Дедушка? Знаю я твоего дедушку! Я с ним поговорю, не переживай.
С этими словами он распахнул дверь и бодро зашагал через улицу своей странной и несколько дурацкой255 походкой. Подавшись торсом чуть вперёд, Лао покачивался из стороны в сторону, будто плыл по волнам, двигал плечами.
Моему дедушке нравился Лао. Он считал его умным, надёжным, толковым, во всех смыслах умелым человеком. А это было для него главным. Ты можешь мучить животных, пытать людей, издеваться над детьми256… Но, если ты умён, надёжен и умел, – у тебя есть все шансы понравиться моему деду. И когда ты внезапно возникнешь на пороге его дома одним прекрасным вечером и скажешь:
– Я бы хотел пригласить твоего внука к нам на ужин. Они с моей дочкой вроде как поладили… Ей тут не очень-то нравится… Вечно жалуется она… Хочет обратно, видимо… Было бы здорово устроить для неё что-нибудь приятное. Не видел я, чтобы она улыбалась и была такой живой, пока внук твой у нас не появился… – дед отказать не сможет257.
Мы с Тори вновь сидели на диване. В руках у каждого по тарелке; в тарелке – датский хот-дог и картошка-фри – та, что из супермаркета, замороженная. Алексей Лавлинский стоял перед нами, рядом со столом, за которым, я полагаю, не хотел сидеть в тот вечер. Стол сдерживал бы его говорливость, мешал словоохотливости, помещал в ненужные рамки. На столе стояла точно такая же тарелка, какие были у нас с Тори, с таким же хот-догом и порцией жареной на сковороде картошки-фри. Стояла на нём и белая кружка с чаем. А вот очки в чёрной оправе – лежали. Без них Лао выглядел практически другим человеком. И этот незнакомец, стремящийся освободиться от оков, которые накладывала на него кухонная мебель, горячо, с неприсущими ему, я полагаю258, страстью и увлечённостью (когда-то, возможно, они были ему присущи; но только не теперь) рассказывал о годах своей безвозвратно утраченной юности259. Он обещал рассказать о знакомстве с музыкой The Smiths. Но начал с самого начала – и рассказ его затянулся. Целое действо разворачивалось перед нами. Я, признаться, несколько увлёкся даже. Чувствовал себя так, будто сижу в кинотеатре и смотрю фильм. Ну, почти. Рассказ свой Лао сопровождал крайне активными жестами и движениями. Он иллюстрировал произносимые им слова.
– …и я махнул им рукой, – он стал махать рукой, показывая, как именно он ею махал, ведь это было очень важно, – они меня заметили, пошли в мою сторону. Я двинулся им навстречу. В руках держал пластинку, – он немного вытянул вперёд согнутые в локти руки. Кулаки были слегка сжаты на уровне груди. Он держал невидимую пластинку – вернее, пластинку, которую видел только он один.
Я слушал эту его историю, но почему-то мог думать только о его очках. Помню, в голове у меня тогда прозвучала мысль: «Надо же! Неужто ношение очков так меняет людей?»
И я взглянул на его очки, лежащие на столе. Сняв их, Лао действительно преобразился, стал другим. Примерно, как Кларк Кент. С той лишь разницей, что Кларк Кент маскировался, надевая и снимая очки. А Лао носил очки, чтобы просто видеть. Может, ему как-то помогало то, что он переставал чётко видеть мир, который становился для него одним смутным пятном, разноцветной пеленой перед его глазами.
История знакомства юного Лао с музыкой The Smiths показалась мне довольно интересной. Одним летним днём шестнадцатилетний Алексей Лавлинский бродил по заброшенному зданию. Это была больница. Он бродил там, потому что дома было скучно, а старший брат частенько донимал его. Все друзья разъехались кто куда. И вот побрёл он по городу260. Точнее, по окраине города, где он жил с семьёй – отцом, матерью, старшим братом и младшей сестрой. До центра путь неблизкий. Да и шумно там к тому же. Поэтому шёл Лавлинский ещё ближе к границе города. Бродил по узким улочкам средь маленьких деревянных старых домиков. В какой-то момент он наткнулся на огромную бетонную коробку, как-то по-злодейски возвышающуюся над всеми прочими строениями. Это и была больница.
– А почему больницу построили на окраине города? – спросил я его. – Не лучше где-нибудь в центре разместить, чтобы всем было удобно добраться?
– Ну, вообще, – начал он, – предполагалось вроде как, что больница будет обслуживать жителей из ближайших деревень и городов поменьше, коими наш город – довольно большой, к слову, – был окружён. Помимо этого… ты вот сказал, мол, «удобно добираться» и всё прочее… так я тебе скажу, что нам – людям, жившим у окраины, не обладавшим такой роскошью как личный транспорт, – добираться до центра было не очень-то удобно. Поэтому было бы вполне неплохо иметь под боком больницу… и торговый центр, пожалуй, – Лао рассмеялся. Я поддержал улыбкой его смех и с пониманием кивнул несколько раз. Он продолжил:
– Однако, тот факт, что её закрыли, наверное, подтверждает твою правоту. В том смысле, что, ну, кому нужна больница на окраине? Никому, видимо… Хотя, дело-то скорее не в этом, но да ладно… Больница, кстати, не выглядела тогда давно заброшенной. Но при этом никто не помнил, чтобы она хоть когда-то была открытой. В массовом сознании это всегда была заброшенная больница. Странно, конечно… и интересно. Тут есть над чем задуматься…
И Лао задумался. Он повернул голову влево, уставившись куда-то. Он размышлял. А мы с Тори доедали свои хот-доги. Затем она взяла у меня пустую тарелку. Отнесла их к раковине. Тогда Лао очнулся261.
– Да… о чём это я? О! Точно!.. В общем, шастал я по той больнице. Узкие тёмные коридоры, граффити на стенах, разбитые стёкла повсюду, перевёрнутые каталки, инвалидные кресла, открытые шкафчики, кучи мусора, какие-то вещи… одежду имею в виду. Комками целыми валялась тут и там. Шарфы и куртки, халаты, само собой, штаны, брюки, рубашки и прочее, прочее, прочее. Я это к чему всё? В одной из палат я заметил койку, на которой лежали цветы. Большой такой, – Лао показал, насколько большой, – и свежий букет красных роз. Когда я подошёл поближе, то увидел, что под ним были ещё букеты. Букеты других цветов, совсем вялых уже. Ещё какие-то безделушки там валялись. И… виниловая пластинка. Это оказался дебютный одноимённый альбом The Smiths. На конверте была подпись. Чёрным маркером: «Линде С. от Дерека. Поправляйся. Всё будет хорошо. Я жду тебя».
И если ты сейчас подойдёшь к полке, возьмёшь оттуда пластинку The Smiths с дебютным альбомом, то увидишь там эту подпись. Не знаю, кто такие Линда С. И Дерек, не знаю, кто лежал в той палате и не знаю, почему я решил взять пластинку себе. Такое, порой, бывает с людьми: делаешь что-то – и сам не понимаешь, зачем, для чего… что тобой движет? Что-то внутри подсказывает, толкает тебя к этому. И ты повинуешься. Делаешь. И только потом спрашиваешь себя: «А зачем я это сделал? Зачем мне это было нужно?» В такие моменты чувствуешь себя отчуждённым от собственной своей сущности. От этого страшно становится. Как если бы ты навис над пропастью…
В тот момент показалось, что Лао действительно навис над пропастью. Ибо он замолчал и опять погрузился в размышления, на этот раз более глубокие. Тори успела сделать нам обоим чай, перекинуться со мной несколькими фразами, посреди которых встрял пробудившийся, вернувшийся на землю Лао:
– …Но я ни о чём не жалею. Благодаря этой находке я обрёл новых друзей, обрёл – что очень важно – надежду, почувствовал впервые в жизни почву под ногами, познакомился с будущей женой… Да уж… музыка меняет судьбы людей. Чаще всего в лучшую сторону. Поэтому музыка для меня очень важна.
Так закончился тот вечер. Первый из многих.
Глава 14
Я стал частым гостем в доме Лавлинских. И от этого почему-то всё больше погружался в отчаяние. Хотя, казалось бы, я проводил теперь меньше времени в доме деда, находился в приятной компании, занимаясь более важными, с моей точки зрения, вещами. Слушал музыку вместе с Тори, говорил с ней о музыке, смотрел иногда фильмы вместе с ней, читал книги. Читать мы могли лёжа в постели в её комнате. Тогда левую половину держал я, а правую – она. Она же и перелистывала страницы. Но иногда я читал ей вслух, иногда она мне.
Комната Тори располагалась в глубине дома. Светло-коричневая дверь с чёрной круглой ручкой вела в тёмную прямоугольную, не слишком просторную коробку из деревянных стен. На окне висели всё те же жалюзи, как в кухне и гостиной. Справа стояла большая двуспальная кровать с серо-коричневым покрывалом и двумя подушками. Слева был шкаф, встроенный в стену. Прямо – стол с компьютером, заваленный книжками да тетрадками. Рядом с ним рюкзак. Справа от стала в углу стоял высокий белый шкаф, разделённый на секции и полки, почти как на соты. На этих полках и секциях было много-много всего. Ещё книжки, ещё тетрадки, какие-то коробочки, шкатулки, статуэтки и фигурки.
Я познакомил Тори с Германом. И он ей понравился. Мы много времени проводили вместе. Гуляли, но всегда за пределами района, в котором жили я и Тори.
Я тосковал по Роберту. Он так и не объявлялся. Его не хватало нашей маленькой компании. Я чувствовал, что мы против всего мира – мира, пропитанного грубостью, невежеством, слепой верой в торжество трезвой повседневности, вынуждающей человека твёрдо стоять обеими ногами на земле и даже не помыслить о том, чтобы хоть разок поднять голову и посмотреть на звёзды. В этом, считали они – мой дед, Лао, Вальтер и отец Вальтера, Гектор Сува, наши учителя и почти все, кого мы встречали на улицах – заключается Истинное Достоинство Человека.
Но именно мы, а не они были настоящими ребеллионцами. Эта убеждённость крепла во мне с каждым днём. И пусть Тори была приезжей и ощущала себя чужой, её я тоже считал ребеллионкой. Ещё большей, чем кого бы то ни было. В какой-то момент я стал называть нас «Союз робких»262. И жаждал, чтобы к этому союзу присоединился Роберт.
«Он нам нужен», – считал я, и мыслил себя отважным и храбрым героем, вокруг которого сплотится народ, готовым сразиться со злом во имя высшей идеи. Я был Тесеем, Персеем, Ахиллом, я был Дольфом Весанто263. Я стоял на краю скалистого обрыва, под которым свирепо пенилось и шипело неукротимое море, готовое поглотить всех и вся своей клыкастой пастью.
И в то же время я был невероятно слаб, немощен. Я был никем и ничем, чёрным липким комком отчаяния и уныния. Вся моя сила исходила от них – от Тори и Германа, от Роберта, что пока ещё не вступил в наши ряды. У людей бывают минуты слабости. У меня же были минуты силы. Всё остальное время я был слаб. Я перемещался между домом Тори, домом моего отца, кладбищем и теми местами, где мы гуляли втроём. Я подпитывался силой от тех мест, от людей, ставших моими друзьями264. Но всякий раз мне приходилось возвращаться в дом деда, в ту душную комнату, что всем своим видом насмехалась надо мной и заставляла чувствовать себя бесконечно одиноким, каким я, вероятно, и был, несмотря на обретённых друзей. Чего-то мне не хватало. Я не мог понять чего. От этого становилось хуже всего.
По ночам я покидал дом дедушки. Я понял, что мне больше не нужна верёвка. Да и никогда не нужна была на самом-то деле. Открыв как-то раз окно нараспашку и высунувшись в него, я посмотрел вниз.