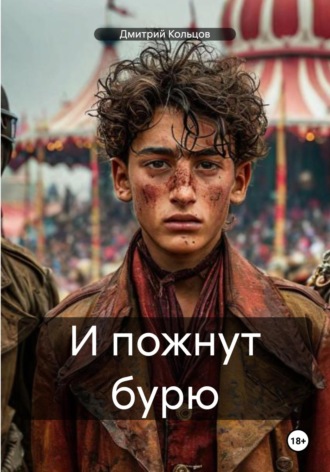
Полная версия
И пожнут бурю
Капитан Ругон и майор Жёв внимательно следили за Омаром. Для них он был словно игрушка или же подопытный кролик; глиняная масса, из которой можно слепить все, что угодно. И вот, когда Омар исполнил свою часть уговора и повторил трюк шпагоглотателя на плацу оранской крепости, они признали, что молодой араб сможет послужить на благо Франции, а также в их личных интересах. Омару дали возможность свободно передвигаться по территории всего гарнизона, работать в кузнице и даже участвовать в вылазках против берберских пиратов, которые, к слову сказать, не особо-то хорошие отношения имели и с арабскими племенами, временами грабя их суда и прибрежные деревни. В общем, жизнь у Омара, можно сказать, понемногу налаживалась. Вместе с тем, он продолжал оставаться де-юре безвольным пленником, которому лишь создали иллюзию свободы, а на деле лепили из него идеального француза арабского происхождения, готового умереть за своего императора и отречься от прошлого. Впрочем, тогда у всех в этом не было сомнений. Даже у самого Омара.
Глава III
Теперича следует перенестись на три года вперед. Омар, человек религиозный до той степени, от которой обычно начинают отсчитывать фанатизм, но не погруженный в его отравляющие болота, поскольку обладал умением отличать истинное учпение от лживых перефраз, исходивших из уст и текстов многих проповедников джихада12 и ваххабизма13, очень много времени уделял молитвам. Поначалу совершал он намаз в своей комнате, в которой спал и трапезничал. Ему было очень неудобно и стыдно перед самим собой и Аллахом за это – о мечети он мечтал. Городская мечеть Орана располагалась далеко от крепости – идти до нее приходилось около получаса быстрым шагом. Однако, получив от Жёва разрешение один раз в день ее посещать, Омар не думал о расстоянии и времени, потраченном на путь. Очевидно, что Омара старались переманить в католическую веру, и все время, пока ему был запрещен выход из крепости, ему неоднократно предлагали посетить гарнизонную капеллу, понаблюдать за мессой и чтением молитв, но Омар вежливо (насколько это было возможно) отказывался и давал понять, что готов перенять всю французскую культуру, быт, язык и манеры, но только не веру. Поняв, что обратить молодого бен Али в католичество не удастся, Жёв и гарнизонный капеллан смирились и прекратили его донимать.
Путь в мечеть, который, как уже было упомянуто, занимал около получаса ходьбы быстрым шагом, Омар очень быстро преодолевал. Он в это время усиленно и напряженно рассуждал у себя в голове обо всем, что только в эту голову приходило. Бывало, придет одна мысль, он начинает ее раскручивать, сам с собой обсуждать ее, делать выводы и предположения, как внутри этой мысли зацепится за какое-то словечко или фразочку, начнет о них думать, рассуждать, так и забудет о прошлой мысли и будет всецело увлечен новой, связанной с предыдущей лишь косвенно, через это словечко или фразочку. Время пролетало незаметно, а путь, казалось, составлял не целую милю, а всего сотню метров. Но не о мечети и религиозности Омара главная мысль. Одной из мыслей, что приходили к нему, являлась задумка совершенствования его кузнеческих способностей. Шпаги, которые он использовал для трюков, изготавливал либо он сам по старой технологии, либо старик Фуле, который по мере старения работал все хуже и хуже. Чаще же всего Омар пользовался старыми шпагами, изготовленными десятки лет назад. Нужно было выходить из ситуации. И Омар, во время похода в мечеть, нашел выход. Совершив намаз, он вернулся в крепость и сразу направился к Жёву, намереваясь изложить ему свою нехитрую мысль.
– Шпага с клинком тоньше ногтя? – удивился майор, выслушав араба. – Ты сам-то хоть веришь в реалистичность ее изготовления?
– Поначалу и у меня были сомнения, – ответил Омар, – но я все продумал, все рассчитал. Разумеется, с первого раза выковать столь тонкий клинок будет невозможно. Я буду предпринимать столько попыток, сколько потребуется, чтобы достичь нужного результата!
– Это похвально; однако скажи – зачем это тебе? Ладно, если бы ты в цирке работал, где почти каждый день сотни и тысячи зрителей платят за подобные зрелища. Но ты живешь среди военных, которым нет дела до твоего мастерства глотать шпаги. Этим пьяницам достаточно того, что ты кинжал проглотишь – уже изумляются, как дети.
– Я скорее не ради искусства хочу выковать такую шпагу. Я хочу доказать себе, что могу быть профессиональнее, чем сейчас есть. Хочу доказать, что являюсь искуссным кузнечным мастером. Да и, глядишь, шпага такая денег будет стоить немеренных.
– Хорошо, хорошо, убедил. Скажи Фуле, что я позволил тебе находиться в кузнице без временных ограничений. Но повежливее с ним будь – старик и так тебя недолюбливает, а тут ты еще захотел ему нос утереть.
Через несколько дней Омар воспользовался предоставленной возможностью. Здесь стоит немного отвлечься и рассказать о конструкции шпаги, что задумал изготовить молодой араб. Длиной чуть меньше обыкновенного клинка; шириной также меньше, но все же не рапира и не спортивная шпага, со стандартными гранями-лезвиями и острием; лишь с той особенностью, что острие должно было быть немного затуплено. Толщина клинка являлась главной особенностью проекта Омара: не более одного миллиметра. Такая толщина клинка позволила бы совершенно беспрепятственно и легко глотать шпагу вплоть ло самог эфеса, что с обычными шпагами делать было весьма затруднительно. Эфес же планировалось значительно облегчить и упростить. Вообще, для пущей наглядности читатель может отыскать или представить у себя в голове изображение паппенхеймера14 – длинной и толстой рапиры, служившей основным оружием тяжелой немецкой кавалерии со времен Тридцатилетней войны и вплоть до конца XVII века. Форма клинка планировалась точной такой же, только в несколько раз тоньше. И если первоначально Омар хотел изготовить шпагу только в единственном экземпляре, то, когда оказался в кузнице и готовился к работе, передумал и решил выковать сразу два экземпляра: один постоянный рабочий для выступлений, а второй запасной и слегка отличающийся от первого немного большей толщиной клинка. С первой шпагой все понятно – глотать и радовать время от времени пьяных солдат и жителей гарнизона, потому что ни на что более такой клинок не сгодится; а если и сгодится, так только как шампур для рыбы или мяса. А вот предназначение второй шпаги, казалось, не было до конца понятно даже Омару. Можно лишь сделать предположение, а потом, углубляясь в дебри текста и изучая события, знакомясь с с новыми персонажами данного произведения, – сделать окончательный вывод. А предположение сделаем следующее: Омар решил изготовить вторую шпагу, более тяжелую и подходящую для пешего боя, на случай, если придется обороняться или же, наоборот, нападать. На кого, спросит читатель? На солдат, служащих в крепости; обороняться от тюремщиков, столько лет его стерегущих. Глупо было бы полагать, что Омар планировал жить в Оране всю оставшуюся жизнь. Рано или поздно его душе и телу стало бы тесно в этом городе и в этой крепости, какими бы привилегиями его не одарили. И Омар это прекрасно понимал и потому решил действовать на опережение и подготовиться на случай, если свободу15 ему откажутся предоставлять. Тут может возникнуть дополнительный вопрос: разве Омар не может просто взять одну или несколько шпаг из тех, коими он до того пользовался во время своих трюков? К сожалению (а может и к счастью) – не мог и не может, поскольку у себя он их не хранил, а лишь получал от начальника оружейного склада на время выступлений и тренировок, после чего обязан был вернуть соответствующее оружие обратно; за оружием велся тщательный присмотр и подсчет. Майор Жёв хоть и видел в молодом арабе одаренного, смышленного и способного человека, чьей миссией было показать и доказать, что даже пустынный дикарь может стать почти что настоящим французом, но, тем не менее, имел некоторые опасения на его счет и принял решение лишить Омара вообще любых надежд на жизнь не по его воле. Поэтому Омар вполне мог изготовить вторую шпагу именно для той цели, чтобы иметь всегда при себе настоящее боевое оружие. Разумеется, бен Али не собирался уведомлять кого бы то ни было о том, что собирается ковать сразу две шпаги, иначе ему бы пришлось давать объяснения такому решению; и, разумеется, никто бы не позволил ему оставить одну из них у себя. Посему выберем именно это предположение в качестве предпочтительно верного, а сами двинемся дальше.
Кузница гарнизонной крепости не представляла из себя что-то великолепное или обязательно достойное внимания, равно как и не являлся таковым ее начальник – старик Фуле. От роду ему было уже очень много лет, он застал мальчишкой русские войска в Париже в 1814 году, а служил дальше дольше, чем Жёв. Хотя говорить, что он именно служил, будет отчасти неверно, поскольку всю свою службу он провел в тылу, занимаясь снабжением, а потому знатно располнел и обленился. Долгое время он возглавлял оружейную палату на Корсике, где беззаботно жил и сумел завести семью, а также отстроить большой дом, походивший на усадьбу. Не углубляясь в нужды солдат, Фуле сквозь пальцы смотрел на воровство пороха, патронов и даже оружия, в конце концов став иметь с этого приличный доход, время от времени посылая вышестоящим генералам правильные отчеты и подарки огромной стоимости, дабы те не устраивали проверок. А в 1853 году началась la Guerre d’Orient16, в которой Вторая империя приняла самое активное участие. На Корсике располагались крупные склады, на которых хранилось громадное количество новейшего оружия, готового к погрузке на корабли и быстрой доставки на фронт. По крайней мере, так думали в Генеральном штабе, ознакомившись с отчетами Фуле за последние несколько лет. В действительности же оказалось, что из двадцати складов, каждый из которых был рассчитан на сорок тысяч ружей и винтовок, а также примерно на такое же число палашей, полностью пустовало семь, и еще девять было частично разграблено. Такая жуткая нехватка оружия стала косвенной причиной того, что англо-французские войска не смогли добиться быстрого захвата Крыма и Севастополя, проиграли Балаклавское сражение и стали требовать вступления в войну Сардинского королевства. Генерал Пелисье, будущий генерал-губернатор Алжира, сумел одержать победу на Черной речке и взять Малахов курган (за что впоследствии получил маршальский жезл и титул герцога Малаховского) во многом благодаря помощи со стороны сардинского корпуса генерала Ламармора. В наказание за такое попустительство Фуле после завершения войны был снят с должности начальника оружейной палаты Корсики, предан военному суду, по результатам которого был разжалован из полковников в капитаны и сослан в Алжир, где получил назначение в качестве заместителя начальника арсенала колонии. Семья последовала за ним: жена и двое сыновей, а также совсем крохотная внучка. Усадьбу на Корсике отобрали в пользу государства (на деле же ее превратили в дачу губернатора острова). Разумеется, семье Фуле такая резкая смена места жительства пришлась не по душе. Всего через два месяца после прибытия в Алжир внучка Фуле умерла от дизентерии, от чего старший сын старика, отец девочки, едва не утопился с горя. Жена Фуле старалась поддерживать мужа, однако сама чувствовала себя просто ужасно в стране, полной песка и неприветливых арабов. Сам Фуле стал вести себя тихо, работал честно и усердно, хотя часто ругался с начальником арсенала (майором по званию, моложе Фуле на десять лет) и младшими служащими. А в 1860 году в Алжир прибыл новый генерал-губернатор, коим оказался маршал Пелисье. Он знал о проступке Фуле и отлично помнил о нем, поскольку лично возглавлял трибунал по данному делу. В первые несколько дней пребывания Пелисье на посту Фуле был подвергнут еще большему наказанию: его сняли с должности заместителя начальника арсенала Алжира, разжаловали из капитанов в капралы и назначен начальником кузницы в гарнизонной крепости Орана. Худшая из сылок, худшая доля. Фуле был разбит, его семья тоже. Младший сын решил убраться из жаркой страны подальше и поступил на службу во флот, после чего уплыл в метрополию, а оттуда на Гаити. Старший сын умер через полтора года; будучи не в силах больше жить, он повесился в отцовской кузнице. А мать их, мадам Фуле, хоть в душе презирала и ненавидела мужа, но продолжала помогать ему, пока сама не слегла с апоплексическим ударом. Пока она лежала в кровати, не имея возможности двигаться, Фуле искал утешения в доме одной алжирки, жившей в близости к крепости. А когда мадам Фуле скончалась (произошло это через три месяца после удара), эта алжирка переехала в крепость. Среди солдат не считалось зазорным или порочным брать к себе местных жительниц для совместного проживания. Они не могли стать солдатам женами (у многих многих солдат вообще в метрополии были дети и супруги), но становились постоянными любовницами, даря женское тепло мужчинам вдалеке от родного дома. Порой они даже рожали солдатам детей, после чего обычно их отсылали из крепости в город, где те жили на деньги отцов своих сыновей и дочерей. Когда новые дети появились у Фуле, он уговорил Жёва позволить оставить их в крепости, как будущих подмастерьев в кузнице. Это были два крепеньких мальчика, росли они очень быстро: в них текла арабская кровь – кровь выносливых и сильных воинов и великих ученых; а также текла кровь благородных французов (хотя говорить о Фуле, как о благородном человеке, язык не повернулся бы даже у самого отпетого вора и мошенника). Однако Господь решил наказать Фуле за совершенные им грехи основательно и не собирался останавливаться на уже свершенных карах. Случилось последнее наказание за два года до пленения Омара. Фуле отправил свою алжирку с детьми, которым к тому времени исполнилось по полгода, поскольку рождены они были двойняшками, в Алжир, на большой базар, прикупить добротных вещей, а заодно посетить хорошего врача-француза, дабы не обнаружилось невзначай какого заболевания у мальчишек, потому что Жёв поставил условие, чтобы они росли безо всякого изъяна в развитии и воспитании. По пути в Алжир никаких проблем не возникло, большой караван, в составе которого была та алжирка с детьми, спокойно добрался до города. На обратном пути поднялась песчаная буря, и караван остановился, чтобы ее переждать. Перед отправкой каравана в Алжире его караван-вожатых предупредили военные, что высока вероятность бури (которая в итоге и началась), а также активизации разбойников и сепаратистов. Но караван-вожатые, будучи гордыми жителями пустыни, проигнорировали предупреждения французов и повели караван в Оран. И во время экстренной стоянки они были вынуждены постоянно озираться по сторонам, в надежде, что незваных гостей не будет. Охраны они с собой не взяли, поскупившись на оплату ее услуг, которая резко возрастала во время неприятных погодных условий, а из оружия имели при себе лишь пару стареньких сабель, которые, судя по их дряхлому вижу, застали еще времена Саладина. Ну а опасения военных полностью подтвердились: ночью, когда буря стала утихать, а караван-вожатые расслабились и собирались отдыхать, из-за нескольких высоких барханов стали виднеться лошади. На лошадях сидели представители клана бен Али – всего двадцать семь всадников, вооруженных огнестрельным оружием. Никто в караване не заметил сепаратистов сразу, а потому те смогли молниеносно окружить небольшую стоянку, отрезав людям все возможные пути для спасения. Весь караван был вырезан, в том числе и алжирка с двумя младенцами. Верблюдов увели в один из мятежных оазисов. Через несколько дней забеспокоились в Оране. Был послан поисковый отряд по маршруту каравана. На следующий день после отправления отряд возвратился в город, везя с собой несколько тел. Среди них удалось опознать ту самую алжирку, у которой был распорот живот. Когда Фуле показали ее тело, он холодно спросил про детей (их не было среди привезенных трупов), на что ему ответили:
– Прости, старик, мы не нашли среди погибших детей. Вероятно, их либо забрали разбойники, либо их тела оказались навсегда погребены под толщами песка.
После этого у Фуле умерла душа. Он потерял последний светлый блик, разогревавший его черствеющее сердце. Он не горевал, не лил слез по погибшим детям, не находился в трауре и дня; не потому, что он был суровым и сильным духом мужчиной, а потому, что сердце зачерствело окончательно. Фуле ничего не чувствовал, словно погибли чужие ему люди, хотя даже чужие люди ужаснулись бы, узнав об устроенной сепаратистами резне. После потери последних близких людей Фуле полностью ушел в себя, посвятив оставшиеся годы жизни кузнеческому делу, которое не приносило ему ни удовольствия, ни малейшего удовлетворения, а только отдаленно вызывало отвращение, потому что Фуле свыкся со своей судьбой одинокого изгнанника и молчаливо ждал визита Смерти с угрюмым терпением человека, которому в этой жизни больше не на что надеяться. Единственное чувство, которое он в себе развил и не давал потухнуть – это ненависть к арабам. В этом проявлялась его парадоксальная двуличная низкая сущность: он не чувствовал ничего по отношению к погибшим детям и своей сожительнице, однако арабов он стал считать виновниками – нет, не их гибели – своего падения на дно. Счастье, пусть даже ничтожное и забитое, для Фуле было не в семье, которую он не любил, а в чувстве удовлетворенности и удовольствия от жизни. И арабы, по мнению Фуле, навсегда отобрали у него возможность испытывать эти чувства.
А потому Омару было очень трудно сработаться с Фуле, особенно, когда всем была известна принадлежность его к клану бен Али. Но Фуле безмолвно подчинился приказу майора Жёва и скрипя последними зубами и вечно ворча себе под нос делал свое дело.
Кузница, в которой суждено было растратить последние силы старику Фуле, находилась на отшибе гарнизонной крепости, в месте, наименее охраняемом, но при этом еще ни разу не подвергшемся нападению извне. Это обуславливалось тем, что от равнинной и пустынной территории данный участок крепости защищался самой природой: благодаря расположению на высоком крутом уступе из твердых пород песчаника кузница оставалась недосягаемой для кавалерийской или диверсионной атаки, так что на данном участке не стали строить даже крепостных стен, ограничившись невысоким забором, единственной задачей которого было удерживать пьяных солдат от падения вниз17, поскольку гарнизонная таверна находилась всего в ста шагах от кузницы. И потому часто кузница подвергалась условным нападениям изнутри. Пьяные солдаты, которых по пятничным вечерам становилось в разы больше, чем обычно, имели коллективную дурную привычку в процессе выяснения отношений прибегать к помощи оружия, находившегося в шаговой доступности (Фуле хранил небольшой запас палашей у себя, как пример при изготовлении нового оружия). Само собой, Фуле и его помощники запирали кузницу десятью замками и рядами досок, однако каждый раз подобного рода оборона прорывалась хмельной толпой. После таких выходок половину из дебоширов отправляли на гауптвахту, а вторую половину заставляли ремонтировать кузницу и таверну. Пару раз в подобных дебошах участвовал и Омар; не как беспутный пьяница, а как любопытный обыватель; это также не добавляло молодому арабу уважения со стороны старика Фуле.
Описывать интерьеры кузницы смысла особого нет, поскольку интерес они представляли весьма скудный (собственно, такими же скудными были и сами интерьеры). Гораздо больших подробностей заслуживают отношения Омара и Фуле. Как уже было сказано выше, старик проникся черной ненавистью к арабам, а равно и к Омару испытавал точно такую же ненависть. И ведь было, за что ненавидеть: клан бен Али испортил очень много крови французским колонизаторам за десятилетия сепаратисткой войны. Но для всех, кто предается меланхоличному созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, должна существовать возможность не побояться глядеть в еще более смутное будущее, потому как только глядя в будущее, можно правильно истолковать прошлое. Очень трудно порой переступить через себя и свои бараньи убеждения, чтобы открыть дорогу развитию новых отношений и новых чувств. Майор Жёв, Омар и большая часть жителей Алжира (включая солдат и религиозных деятелей – самых фанатичных и ортодоксальных слоев общества) к середине царствования Наполеона III осознали этот принцип (порой абсолютно бессознательно) и даже если продолжали испытывать неприязнь друг к другу, то старались публично этого не показывать. А вот Фуле был другим. Он не стеснялся открыто говорить Омару в лицо все, что думает о нем и его роде. Однажды Омар не выдержал и и ответил старику:
– Вот ты без конца поносишь меня и всех вообще арабов, но при этом только лишь о своей жалкой, никому не нужной жизни волнуешься! И то, ты только и делаешь, что смотришь в прошлое, пытаясь зацепиться за тонкие колоски воспоминаний, которые сам для себя выбрал. А меж тем это удел слабых, конченых людей, и ты все делаешь для того, чтобы таковым и подохнуть. Все вокруг тебя давно живут настоящим и думают о будущем, и потому они счастливы; а ты потакаешь собственным грехам и собственному бесчестию. Подумал бы о тех детях, которых потерял, о сыне, который до сих пор жив и благополучно служит на благо страны, но тебе на них плевать, наплевать на страшную смерть тех маленьких мальчиков, а равно наплевать на всех людей.
– Не тебе меня судить, шакал! – шипел в ответ Фуле, насупившись, как забитый воробей.
– Не мне, – отвечал Омар, – однако я говорю истину, и ты это знаешь, а потому гневаешься и изливаешься в ядовитой злобе. Ведь не в арабах дело; арабы стали последней каплей. Ты ненавидишь весь род человеческий, а арабы просто оказались ближе всех, чтобы на ком-то конкретизировать твою ненависть. Жил бы ты среди французов – ненавидел бы французов; жил бы среди немцев – ненавидел бы немцев.
– Нет, ты меня не знаешь!
– Знаю я тебя. Ты самый обычный человечек, обозленный на весь мир за то, что с тобой поступили, как тебе кажется, несправедливо и жестоко. А меж тем ты чужие грехи обличать мастак, но собственных замечать в упор не желаешь. Попробуй перестать смотреть в прошлое и примириться с самим собой. Тогда и весь едкий дым с души уйдет. Тогда сможешь спокойно дышать и спать по ночам.
Красивые слова Омара мало повлияли на взгляды Фуле, разве что теперь старик стал считать молодого бен Али обыкновенным пустословом, а не жестоким разбойником. Тем не менее, все же некоторый эффект речь Омара оказала: Фуле прекратил публично выражать свое мнение по любым вопросам и отныне все свои мысли стал держать при себе, позволяя себе лишь ворчать, что он и до того делал по поводу и без повода. В дальнейшем взаимоотношения Омара и Фуле складывались, словно они были двумя бригантинами в Средиземном море, ходившими под одинаковым флагом: безразлично, проще говоря. Фуле позволял Омару работать в кузнице под присмотром сержанта Марана (да и сам пристально за ним следил), но всегда сохранял прохладно-надменный тон при общении, которое, в общем-то, и без того было крайне редким. Омар же старался вести себя более учтиво, хотя искренне делать этого не хотел, а лишь следовал советам капитана Ругона (ставшего начальником арсенала гарнизона и непосредственным начальником Фуле), который не желал, чтобы конфликт вспыхнул вновь.
И вот, в один из обыкновенных дней августа 1869 года Омар продолжал работать над шпагой, которая по задумке должна была быть тоньше человеческого ногтя. Работал Омар под присмотром Фуле и сержанта Марана, которым было мало интересно, чем он там занимался. Была пятница, и у сержанта на уме было только одно: дождаться вечера и как можно скорее двинуться в кабак. Фуле же просто было все равно. Бен Али имел привычку работать очень долго и усердно, особенно, если у него ничего не получалось (а успехов в его деле пока было немного). До позднего вечера он все выплавлял, остужал, ковал и точил, а потом, будучи недовольным получившимся экземпляром, переплавлял его заново, проходя через весь кузнеческий круг снова и снова. В восемь часов пополудни Фуле собирался уже закрываться, но Омар уговорил его еще на пару часов работы. Следуя своему modus operandi18, бен Али с еще большим упорством принялся за работу, не собираясь отступать от поставленной цели. Он продолжил плавить, остужать, ковать, переплавлять и снова ковать, не понимая, почему его преследует неудача, ведь он все делал правильно, согласно разработанной им же технологии, но постоянно что-то не получалось, в первую очередь, – при ковке не получалось достигнуть необходимой толщины клинка (а об нанесении узоров, декорации, разработке острия и эфеса не могло быть и речи без выполнения главнейшей характеристики предполагаемой шпаги – тоньше ногтя!). Из-за нескончаемых неудач Омар начал вслух себя корить. Причем делать это он стал на арабском языке, чем нехило пугал и раздражал старика Фуле, сидевшего в кресле у чертежного стола и клевавшего носом воздух. В какой-то момент Фуле стало невыносимо находиться в кузнице и слушать арабоязычные ругательства.
– Омар, черт тебя подери! – Фуле вскочил с кресла и с недовольной гримасой подошел к арабу. – Ты когда, наконец, закончишь свою бессмысленную работу? Я спать хочу уже, понимаешь? Спать хочу!



