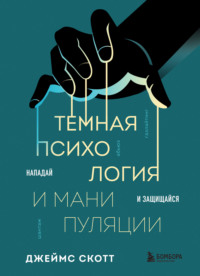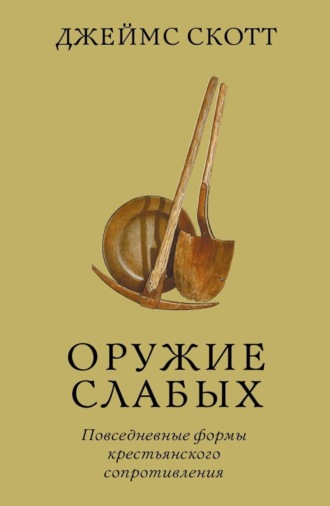
Полная версия
Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления
Второе основание для того, чтобы поместить в центр исследования опыт человеческих агентов, связано с самой концепцией класса. Выявить некий класс в себе – группу лиц, занимающих сопоставимое положение по отношению к средствам производства, – дело хорошее. Но что, если такие объективные структурные дефиниции не находят особого отклика в сознании и осмысленной деятельности тех людей, которые получили подобное определение[124]? Вместо простого предположения о полном соответствии между «объективной» классовой структурой и сознанием не будет ли гораздо предпочтительнее понять, как эти структуры воспринимаются человеческими акторами из плоти и крови? В конечном итоге, категория класса не исчерпывает всё объяснительное пространство социальных действий. Нигде этот момент не проявляется в большей степени, как в крестьянской деревне, где класс может конкурировать с родством, соседством, кликами и ритуальными связями как средоточиями человеческой идентичности и солидарности. За пределами деревни конкурировать за лояльность с классом также могут принадлежность к определённой этнической или языковой группе, религии и региону. Категория класса может быть применима к одним ситуациям и неприменима к другим, она может усиливаться другими связями или пересекаться с ними; для одних она может быть гораздо важнее, чем для других. Те, кто испытывает искушение отвергнуть все принципы человеческого действия, которые противоречат классовой идентичности как «ложное сознание», и ждать «детерминации в последней инстанции», о которой пишет Альтюссер[125], скорее всего, предаются напрасным ожиданиям. Между тем беспорядочная реальность множественных идентичностей так и останется тем опытом, который направляет социальные отношения. Ни крестьяне, ни пролетарии не выводят свои идентичности напрямую или исключительно из способа производства, и чем раньше мы обратим внимание на конкретный классовый опыт в том виде, в котором он проживается, тем быстрее мы сможем оценить как препятствия для формирования классов, так и соответствующие возможности.
Ещё одним обоснованием тщательного анализа классовых отношений является то, что в деревне – да и не только там – классы перемещаются под странными и обманчивыми лозунгами. Они воспринимаются не как призрачные и абстрактные концепции, а в слишком человеческой форме особых лиц и групп, особых конфликтов и борьбы. Специфику этого опыта применительно к рабочему классу уловили Фрэнсис Фокс Пайвен и Ричард А. Клоуард:
«Начнём с того, что человеческий опыт лишений и угнетения переживается в конкретной обстановке, а не является конечным продуктом масштабных и абстрактных процессов, – и именно конкретный опыт превращает недовольство людей в конкретные претензии, относящиеся к конкретным целям. Опыт рабочих – это опыт фабрики, стремительного ритма конвейера, начальников цехов, доносчиков, охранников, хозяина и получения зарплаты. Монополистический капитализм не является тем непосредственным опытом, который они переживают»[126].
Точно так же опыт малайского крестьянина – это опыт растущей арендной платы за землю, скупых землевладельцев, разорительных процентов у ростовщиков, комбайнов, вытесняющих крестьян с земли, и мелких бюрократов с их дурным обращением. В опыте малайского крестьянина нет денежных отношений или пирамиды капиталистических финансов, которая делает упомянутых землевладельцев, владельцев комбайнов, ростовщиков и бюрократов лишь второстепенным звеном в сложном процессе. Поэтому не слишком удивительно, что классовый язык в деревне содержит «родимые пятна» своего особого происхождения. Селяне не называют Пака Хаджи Кадира агентом финансового капитала – для них он Кадир Чети, поскольку именно посредством ростовщической касты четтиаров, которая господствовала в кредитовании села примерно с 1910 года до Второй мировой войны, малайский крестьянин получал максимально принудительный опыт встречи с финансовым капиталом. То обстоятельство, что слово «четтиары» несёт аналогичные коннотации и для миллионов крестьян Вьетнама и Бирмы, является данью гомогенизации опыта, который принесло проникновение капитализма в Юго-Восточную Азию. И это не просто вопрос распознавания того, что перед нами некая маскировка, и раскрытия скрывающихся за ней реальных отношений, ведь маскировка, метафора являются частью этих отношений. Малайцы исторически воспринимали ростовщика как собственно ростовщика и как четтиара, то есть как чужеземца и немусульманина. Точно так же малайцы обычно воспринимают лавочника и скупщика риса не только как кредитора и оптового торговца, но и как человека иной расы и иной религии. Таким образом, понятие класса в том виде, в каком он проживается в опыте, почти всегда представляет собой сплав, содержащий неблагородные металлы; его конкретные свойства, его способы применения являются свой ствами сплава, а не чистых металлов, которые могут в нём содержаться. Либо мы принимаем этот сплав таким, каким мы его обнаруживаем, либо нам вообще придётся отказаться от эмпирического изучения классов.
Едва ли стоит сетовать по поводу того, что концепция класса, основанная на опыте, неизбежно оказывается встроенной в конкретную историю социальных отношений. Именно эта укоренённость опыта и придаёт ему силу и смысл. Когда опыт оказывается общим для большого количества людей, символы, которые воплощают классовые отношения, могут обрести необычайно экспрессивную силу. В этом контексте можно вообразить ситуацию, когда недовольство отдельных людей становится коллективным, а коллективное недовольство может принимать характер мифа с классовой основой, который всегда связан с локальным опытом. Например, отдельно взятый крестьянин может быть арендатором у землевладельца, которого крестьянин считает особенно ущемляющим его интересы. Он может роптать, может даже предаваться фантазиям о том, как он расскажет землевладельцу всё, что о нём думает, а то и вынашивать более мрачные мысли о поджоге или убийстве. Если это недовольство является изолированным и личным, то дело, скорее всего, на том и закончится, оставшись лишь в фантазии. Но если множество арендаторов окажется в одной лодке – либо потому, что они арендуют землю у одного и того же владельца, либо потому, что они получают от землевладельцев одинаковое обращение, – то возникает основание для коллективного недовольства, коллективных фантазий и даже коллективных действий. В этом случае крестьяне, скорее всего, станут рассказывать друг другу истории о плохих землевладельцах, а поскольку о некоторых землевладельцах, скорее всего, пойдёт больше дурной славы, чем о других, именно они окажутся в центре сюжетов, оснащённых богатыми подробностями, которые выступают хранилищем коллективного недовольства большей части общины подобными землевладельцами в целом. Именно так легенда о Хаджи Метле превратилась в своего рода кодовое обозначение крупного землевладения во всей округе. Именно так частушки о Хаджи Кедикуте оказываются не столько сюжетом об отдельных лицах, сколько символом целого класса землевладельцев-хаджи.
Если бы в Кедахе когда-нибудь имело место крупномасштабное движение, призывающее к восстанию против землевладельцев (на деле такого движения не было), то кое-что от духа этих легенд, несомненно, отразилось бы в действиях – символическая подготовка дальнейшего пути уже состоялась. Однако следует подчеркнуть ключевой момент: если где и предпринимать попытки обнаружить понятие класса, то оно найдется лишь закодированным в конкретном общем опыте, который отражает как культурный материал, так и исторические данные его носителей. На Западе выражением понятия «пища» чаще всего является слово «хлеб», тогда как в большинстве азиатских стран это рис[127]. В Америке символическим воплощением слова «капиталист» может выступать Рокфеллер со всеми историческими коннотациями, связанными с этим именем, а в Седаке олицетворением плохого землевладельца выступает Хаджи Метла со всеми соответствующими историческими коннотациями.
В силу всех перечисленных причин изучение классовых отношений в Седаке, как и в любом другом месте, с необходимостью должно быть изучением смыслов и опыта в той же самой мере, что и изучением поведения в узком смысле этого слова. Никакой иной процедуры здесь и быть не может, поскольку поведение никогда не является самообъясняющим. Чтобы проиллюстрировать данную проблему, достаточно привести знаменитый пример с быстрым закрытием и открытием одного глазного века, использованный Гилбертом Райлом и развитый Клиффордом Гирцем[128]. Как интерпретировать это телодвижение – как подёргивание глаза или как подмигивание? Простое наблюдение за физическим актом в данном случае не дает никакой подсказки. Если это подмигивание, то что именно оно означает – сговор, насмешку или попытку соблазнения? Какую-то информацию на сей счёт может дать только знание культуры и общих для разных людей смыслов, знание об акторе, его или её наблюдателях и сообщниках – и даже в этом случае необходимо учитывать возможные недоразумения. Одно дело – знать, что землевладельцы подняли плату за аренду земель для рисоводства; другое – знать, что именно такие действия означают для тех, кого они затрагивают. Быть может – это просто возможность, – арендаторы считают повышение арендной платы обоснованным и давно назревшим. Быть может, они видят в этом решении ущемление своих интересов, нацеленное на то, чтобы выгнать их с этой земли. Но может быть и так, что единое мнение отсутствует. Возможность ответа может подсказать лишь исследование опыта арендаторов и того смысла, который они придают указанному событию. Формулировка «возможность ответа» используется здесь потому, что арендаторы могут в собственных интересах представлять своё мнение в ложном свете, а следовательно, интерпретация может оказаться непростой задачей. Однако без этой информации нам приходится двигаться без какого-либо «компаса». Кража зерна, кажущаяся намеренная бестактность, кажущийся подарок – смысл всего этого нам недоступен, если мы не сможем сконструировать его на основании тех значений, которые могут предоставить только человеческие акторы. В этом отношении мы фокусируемся на опыте поведения как минимум в такой же степени, что и на самом поведении, что и на истории, хранящейся в сознании людей, что и на «потоке событий»[129], что и на восприятии и понимании класса в качестве «объективных классовых отношений».
Предпринятый подход, безусловно, в значительной степени опирается на такие парадигмы, как феноменология или этнометодология[130], однако не ограничивается ими, поскольку в том, что люди говорят о себе, лишь ненамного больше истины, чем в том, что их поведение говорит само за себя. У чистой феноменологии имеются свои подводные камни. Поведение, включая речь, в значительной степени является автоматическим и нерефлексивным, основанным на представлениях, которые редко поднимаются до уровня сознания – если это вообще происходит. Внимательный наблюдатель должен дать интерпретацию такого поведения, которая представляет собой нечто большее, чем простое воспроизведение «здравого смысла» участников ситуации. Оценивать подобную интерпретацию следует по меркам её собственной логики, её экономики и её соответствия другим известным социальным фактам. Кроме того, человеческие агенты могут давать противоречивые объяснения собственного поведения или же могут стремиться скрыть своё понимание от наблюдателя или друг от друга. Следовательно, здесь применяются те же стандарты интерпретации, хотя её почва заведомо ненадежна. Помимо этого, в любой ситуации попросту присутствуют факторы, которые проливают свет на действия человеческих агентов, однако они едва ли способны их осознавать. Например, такие факторы, как международный кредитный кризис, изменения мирового спроса на продовольственное зерно, бесшумная фракционная борьба в кабинете министров, влияющая на аграрную политику, небольшие изменения в генетическом составе семенного зерна, могут оказывать решающее влияние на локальные социальные отношения вне зависимости от того, знают ли об этом участвующие в них акторы. Внешний наблюдатель нередко может включить такое знание в описание ситуации в качестве дополнения, а не замены того описания, которое предоставляют сами человеческие агенты. Ведь сколь бы фрагментарной или даже ошибочной ни была реальность, переживаемая в опыте человеческих агентов, именно она обеспечивает основание для их понимания и их действий. Наконец, не существует никакого полного описания пережитой в опыте реальности, никакой «полной словесной фиксации сознательного опыта»[131]. Полнота этой фиксации ограничена как эмпирическими, так и исследовательскими интересами того, кто её выполняет – в данном случае речь идёт о классовых отношениях в широком толковании, – и практическими ограничениями времени и пространства.
Таким образом, в этой книге предпринимается попытка достоверного описания классовых отношений в Седаке, которое в максимально возможной степени опирается на свидетельства, опыт и описания действий, представленные самими их участниками. Во многих фрагментах я дополнял эти описания собственными интерпретациями, поскольку мне хорошо известно, как идеология, рационализнация личных интересов, повседневная социальная тактика или даже вежливость могут влиять на то, что именно говорит участник ситуации. Впрочем, надеюсь, что их описания никогда не замещались моими собственными. Вместо этого я пытался находить подтверждения своей интерпретации, демонстрируя, каким образом она «устраняет аномалии или добавляет информацию к тому наилучшему описанию, которое может предложить участник». Ведь, как утверждает Джон Данн,
«не в наших силах подобающим образом утверждать, что мы знаем, что понимаем того или иного человека или его действия лучше, чем он сам, не имея доступа к описанию, лучшему, чем может представить он сам… Критерием доказательства достоверности описания или интерпретации действия выступают экономность и точность, которые используются при обработке полного текста описания, представленного самим агентом».
Глава 3
Ландшафт сопротивления
Антураж, в котором сегодня живут крестьяне Седаки, лишь в малой степени является творением их рук. Быть может, столетие назад, до британской аннексии этих краёв, когда здесь ещё продолжалась расчистка земель, денежная экономика и производство для рынка были лишь незначительными аспектами натурального хозяйства, а государство вмешивалось в деревенские дела лишь спорадически, утверждение, что первопроходцы Седаки во многом сами создали свой маленький мир, могло бы претендовать на правдоподобие. Но даже тогда, разумеется, они едва ли обладали автономией[132]. Государство уже мобилизовало рабочую силу для рытья водоотводных каналов, тем самым создавая новые земли для выращивания риса и расширяя свою доходную базу. Торговля рисом, которая велась через Пинанг, уже способствовала монетизации экономики, достаточной для того, чтобы она подвергалась воздействию более масштабных рыночных сил. Помимо этих социальных сил, которые формировали мир Седаки, люди прежде всего сталкивались с превратностями капризной природы, которые из года в год определяли, насколько хорошо они питались – и было ли у них пропитание вообще.
Недавний сдвиг был не революционным, но достаточно масштабным, чтобы представлять собой некое качественное изменение. Дело не столько в том, что сельское хозяйство больше не является чем-то вроде азартной игры, сколько в том, что ставки от сезона к сезону теперь окончательно определяются социальными силами, которые возникают далеко за пределами деревни. Всё что угодно – от периода подачи воды, а следовательно, и графика пересадки риса и сбора урожая, до стоимости удобрений и услуг трактористов, цен на рис-сырец, стоимости его помола, условий кредитования и стоимости рабочей силы, – в такой степени является продуктом государственной политики и экономики в целом, что сфера местной автономии ощутимо сократилась.
Здесь нет ни необходимости, ни оснований для подробного описания социальной истории Седаки и вторгающихся в неё внешних сил. В то же время требуется бегло описать основные черты ландшафта, который формируют контекст классовых отношений в деревне. Фон (background) этого ландшафта – базовые очертания постколониального государства и экономики – определённо является рукотворным, однако если исходить из любых прикладных задач, то они представляют собой данность, которую редко (если это вообще происходит) замечают мелкие акторы, находящиеся в центре нашего внимания. В конечном итоге, невозможно ожидать, что рыбы будут говорить о воде, ведь вода – это просто среда, в которой они живут и дышат. Те детализированные знания из области здравого смысла, которыми в чрезвычайном изобилии располагают деревенские жители, по большей части неизбежно основаны на этих грубых чертах их привычного ландшафта. В любом ином контексте многое из того, что они знают, имело бы мало смысла. Характерные особенности этого исходного ландшафта создают ощутимые пределы возможного – по меньшей мере в краткосрочной перспективе, – а также формируют сами возможности и оказывают определяющее давление на природу классовых отношений. Например, именно узаконенная система частной собственности на землю задаёт отношениям между арендодателем и арендатором как потенциал, так и всеобщий масштаб, выступая в качестве фокуса классового конфликта. При этом практика конкуренции на выборах, сколь бы строго эта конкуренция ни ограничивалась, позволяет определёнными способами задавать направление и институциональное оформление политического конфликта. Частная собственность на землю и выборы как порождения социума едва ли неизменны, но до тех пор, пока они сохраняются, они подразумеваются как «естественные» для Седаки факты наподобие глинистых почв или муссонных дождей[133].
В той части этого ландшафта, которую можно назвать средним планом (middle ground), расположены экономические и социальные факты последних примерно десяти лет. Наиболее заметными вехами здесь выступают последствия двойных урожаев для землепользования, доходов, труда, мобильности, стратификации и социальной структуры во всем регионе, небольшой частью которого является Седака. Едва ли менее заметны изменения как в масштабах, так и в характере деятельности государства. Для этого среднего уровня характерен более чёткий фокус: он более ощутимо проявляется в повседневной жизни крестьян, занимающихся рисоводством, выступает той средой, к которой им приходится адаптироваться и, наконец, представляет собой предмет, о котором у крестьян имеются весьма определённые, хотя и разнонаправленные мнения. Чтобы очертить контуры этого среднего уровня, необходимо установить базовые социальные и экономические факты, которые затем подвергаются интерпретациям со стороны деревенских жителей. Например, если многие селяне считают чрезвычайно возмутительной потерю доходов от наёмного труда из-за появления комбайнов, то было бы целесообразно узнать, насколько широко распространена эта картина и как выглядит типичный ущерб. Задача описания этого уровня заключается не в том, чтобы позволить фактам говорить самим за себя – они и так этого никогда не делают, – а в том, чтобы установить нечто вроде исходных условий для переживаемых в опыте данностей, которые формируют точку отсчёта для отношений между классами.
Передний план (foreground) ландшафта – изменения последнего десятилетия в том виде, как они проявили себя в деревне Седака, – будет описан в главе 4. В этой и последующей главах мы рассмотрим антураж, в котором существуют локальный опыт и локальные занятия.
Представленный массив фактов был отобран с учётом двух принципов. Во-первых, я посчитал, что ключевыми фактами для классовых отношений в Седаке выступают масштабные трансформации производственной техники и производственных отношений, связанные с двойными урожаями. Во-вторых, при отборе этих фактов я также руководствовался теми проблемами, которые, судя по всему, волновали самих жителей деревни. Если их огромное беспокойство вызывали уровень арендной платы за землю или потеря работы на сборе урожая, я позволял этому беспокойству оказывать воздействие на мой отбор фактов. Некоторые уместные и даже принципиальные факты, несомненно, были упущены. Однако мне показалось более предпочтительным руководствоваться опытом самих селян, а не своим собственным, ведь именно их опыт выступает основой формирования их реакций.
Фон: Малайзия и рисовый сектор сельского хозяйстваЕсли бы вам пришлось быть крестьянином где-нибудь в Юго-Восточной Азии, то Малайзия, несомненно, была бы наиболее предпочтительным вариантом практически по любым стандартам. К преимуществам этой страны относятся открытая и динамичная капиталистическая экономика с обилием природных ресурсов, относительно благоприятное соотношение между численностью населения и территорией страны, политическая система, которая пусть и не является демократической, но по меньшей мере допускает определённую оппозицию, и государство, менее хищническое, чем большинство его соседей. В таких сферах, как здравоохранение, образование, водо- и электроснабжение, транспорт, борьба с наводнениями и ирригация, Малайзия почти наверняка сделала для своего населения больше, чем любое другое государство Юго-Восточной Азии[134]. Благодаря темпам экономического роста за последние два десятилетия страна стала вызывать зависть у соседей и превратилась в любимца международных кредитных организаций наподобие Всемирного банка и Азиатского банка развития. С 1960 по 1976 годы валовый национальный продукт (ВНП) на душу населения рос в среднем на 3,9 % – динамка, намного превышающая медианные показатели для стран с низким или средним уровнем дохода, а также аналогичные показатели для индустриальных стран[135]. Таким образом, несмотря на быстрый рост населения (3 % в год), к 1978 году размер ВНП Малайзии на душу населения превысил 1100 долларов США, что вдвое превосходит показатели любой другой крупной страны Юго-Восточной Азии[136].
Из всех стран, экономика которых растёт за счёт экспорта, Малайзия является наиболее показательным примером. В 1980 году эта страна была крупнейшим в мире экспортёром тропической древесины твёрдых пород, олова, каучука и пальмового масла, а с 1975 года она является нетто-экспортёром нефти. Одним из результатов устойчиво благоприятного торгового баланса стало почти четырёхкратное увеличение государственных доходов с 1966 по 1976 годы, что невероятно расширило политические возможности государства и расходы на развитие. Бюджет Малайзии буквально ломится от доходов – по меньшей мере по меркам Юго-Восточной Азии. Ещё одним последствием стало усиление зависимости экономики от рынков сбыта основных экспортных товаров. Сейчас эта зависимость гораздо более диверсифицирована, чем прежде, когда она была основана на олове и каучуке, но всё же имеет выраженный характер. Как часто случается, даже впечатляющий рост импортозамещающих отраслей промышленности не уменьшил зависимость Малайзии от внешней торговли, поскольку такая индустриализация в значительной степени зависела от импорта основных средств производства и промежуточных товаров (в 1974 году на эти группы приходилось почти три четверти стоимости совокупного импорта). Сохранилось и иностранное доминирование в экономике, пусть и в изменённой форме. Закрепившись прежде всего в плантационном секторе, иностранные предприятия стали играть заметную роль как в импортозамещающих отраслях (например, в производстве текстиля и стали, сборке автомобилей), так и в секторах, производящих товары на экспорт (например, электротехнику и транзисторы) в зонах свободной торговли. По состоянию на 1974 год более 60 % акционерного капитала малайзийских корпораций принадлежало иностранцам.
В этом контексте потребности сельского хозяйства с преобладанием мелких производителей в целом и сектора рисоводства в частности никогда не были главным приоритетом ни колониального, ни постколониального государства. Поскольку плантационный сектор выступал основным источником иностранной валюты и государственных доходов, его требования к инфраструктуре, рабочей силе, земле и капиталу всегда были в приоритете. Теперь же, в условиях роста городской рабочей силы, усилия по минимизации трудовых издержек за счёт поддержания низких внутренних цен на рис – основной продукт питания малайзийцев – стали ещё более насущными.
Как и в других странах, капиталистическая модель развития, экономический рост за счёт экспорта и стимулирование иностранных инвестиций заодно привели ко всё более неравномерному распределению доходов. Это происходило несмотря на значительные общие темпы роста и государственные программы, непосредственно направленные на преодоление бедности. Отражением данного процесса выступает нараставший с 1960 по 1970 годы разрыв между средними доходами в традиционном сельскохозяйственном секторе и остальной экономике. Если в 1960 году он составлял порядка 1:2,5, то в 1970 году разрыв увеличился до более чем 1:3[137]. Отражением данного разрыва также выступает увеличение пропасти между доходами людей, находящихся ниже и выше официальной черты бедности. Например, с 1960 по 1970 годы реальные доходы деревенских бедняков фактически сокращались на 0,4 % в год, тогда как доходы остального населения росли примерно на 2,4 % в год[138]. В течение следующих восьми лет (1970–1978 годы) реальные доходы сельской бедноты росли (на 2,4 % в год), однако темпы этого роста были более вдвое ниже, чем у остального населения (5,2 %). За два указанных десятилетия не только заметно увеличилось неравенство в доходах – к 1978 году реальные доходы двух основных групп деревенских бедняков – крестьян, занимающихся рисоводством на мелких участках, и сборщиков каучука, – были ненамного выше, чем в 1960 году. По сути, перед нами модель общего капиталистического роста, которая породила ещё большее неравенство и принесла наименьшие выгоды сельской бедноте[139]. Взаимосвязь между масштабами бедности и моделью роста в Малайзии отражает следующая аномалия: ниже официальной черты бедности находится значительно большая доля сельского населения (44 %), чем в других странах с гораздо более низким уровнем доходов на душу населения.