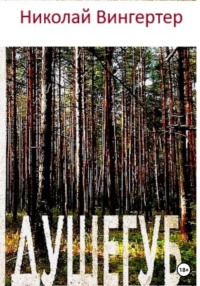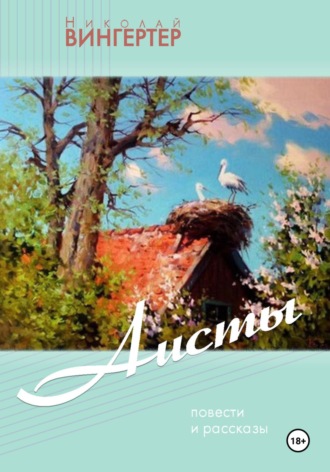
Полная версия
Аисты
Мокшин смотрел на него очумелыми от удивления глазами. Он первый раз видел перед собой мошенника, который не стесняясь, за одну только веру обирал людей, рассказывая об этом ещё и гордился каким-то особенным цинизмом.
Они посидели ещё с полчаса, которые больше говорил Урбан, не забывавший быстро поедать сытную закуску, и разошлись.
2.
К середине мая, который благоприятствовал погодой, Мокшин закончил основные огородные работы. А вскоре ведро сменилось ненастьем: зарядил скучный дождь; моросящая серая влага затянула не только небо, но все горизонты, давая ощущение нескончаемых сумерек. Мокшин по утрам, после крепкого чая, выходил на крылечко с навесом и, сидя на скамейке, курил папиросу, скучал, и вместе с табачным дымом вдыхал сырой, но теплый и очень вкусный деревенский воздух. В одну из таких минут к нему подсел Новиков, на котором была подаренная тельняшка, а поверх безрукавка из грубо выделанной овчины.
– Ясное дело, что нечего делать, – невольно скаламбурил он.
– И я о том же, – ответил Мокшин. – Хотя бы какую живность что ли завести: кошку или собаку, всё будет в доме веселей.
– Это всё не то, – сказал Новиков. – Ещё мой дед говаривал: «В квартирах собак и кошек держат либо дураки, либо лодыри…» Собака должна охранять и жить во дворе, а кошка ловить мышей в хлеву. Ты заведи себе что-то, может быть, и хлопотное, зато полезное.
– Например?
– А хотя бы ту же овцу для начала. Поговори со Сторожевым, он тебе присмотрит. Главное – начать, там, глядишь, и стадом обзаведешься, а это и мясо, и шерсть, и шкура, – Новиков демонстративно подергал себя за полы безрукавки.
Мокшин после этого разговора целый день думал о предложении соседа. Оно ему казалось поначалу даже не столько нереальным, как смешным, потому что никогда не имел дело со скотиной, и совершенно себе не представлял, как ходить за животными. Потом решил, что живёт в деревне, как сам и хотел, и отчего бы не завести именно овцу. Он на следующий день сходил к Сторожеву, рассказал о своем деле. Тот его поддержал, даже похвалил, и обещал на днях помочь.
Была суббота, мелкий дождь прекратился, небо ещё оставалось в низких облаках, но сквозь них уже светило солнце, и в воздухе высоко летали ласточки и стрижи, предвещая хорошую погоду.
У дома Мокшина остановился грузовой микроавтобус, из него вышли Сторожев и водитель. Последний открыл заднюю дверцу, Сторожев аккуратно, на обе руки, взял забившуюся в угол кузова овцу с веревкой на шее, выставил её на землю. Из дому вышел Мокшин, подошли старики Новиковы. Овца, увидев сразу столько народу, с испугу даже не дернулась, не заблеяла, а присела на зад, уставившись на людей недоверчивыми овечьими глазами, полными первобытного страха перед человеком.
Сторожев передал конец веревки Мокшину.
– Держи! Хороша овечка, молоденькая, приобрел для тебя на одном хуторе, там давно разводят эту красивую романовскую породу. А вот ещё погляди, овечка то стельная, – он погладил слегка надутые бока овцы. – Совсем уже скоро ягнится. С тебя и только для тебя по очень малой цене – пятьсот рублей.
Мокшин продолжал в растерянности держать веревку. На просьбу ветеринара машинально двинулся домой за деньгами, потащил за собой овцу. Та рванула в сторону, упала, уперлась копытцами в землю, и протяжно и громко заблеяла. У него веревку перехватила старуха Новикова и сказала, что подержит овцу, всё ему популярно объяснит, что делать, чем кормить, поить и как ухаживать. Мокшин, взволнованный, пошёл в дом за деньгами. Он выдвинул из комода верхний ящик и взял в руки стопку денег. Это была его пенсия, которую неделю назад приносила почтальон. Всего было восемь тысяч рублей купюрами по пятьсот. Он отложил в сторону пятисотенную купюру и как-то машинально пересчитал остальные деньги. Сумма не сошлась. За это время три тысячи отдал Урбану, пятьсот потратил на продукты, с расходами за овцу должно было оставаться четыре тысячи рублей, то есть восемь купюр. Было их почему-то шесть. Он снова проверил деньги. Сомнений не было: оставалось их три тысячи вместо четырех. Мокшин задумался, что, может быть, недодала местная почтальонша? Он ведь никогда не пересчитывал, по своей доброте и простоте, привык доверять людям… Вдруг его прошиб холодный пот… Он даже вытер ладони о штанины… Мокшина осенило: две купюры по пятьсот рублей украл Урбан, когда он выходил, чтобы гостю принести угощение… На улицу Мокшин вышел с заметно побледневшим лицом. На короткое замечание Новиковой, объяснявшей его волнение по-своему: не надо так волноваться за овечку, все будет хорошо, – попытался улыбнуться и ответил, что это, наверное, давление.
Мокшин рассчитался со Сторожевым, потом пошел вслед за Новиковой и овцой в сарай за домом. Новикова по ходу стала ему объяснять нехитрые правила по уходу за животным.
Когда Новикова ушла, Мокшин всё никак не мог справиться с волнением из-за пропажи денег. За его непростую жизнь с ним такое случилось впервые. Он не знал, что делать в такой ситуации, но житейская мудрость подсказывала, что ничего и не сделает: «не пойманный – не вор». Чтобы отвлечься от назойливых мыслей, стал из жердей городить для овцы в сарае отдельный загон и в нём даже устроил подобие яслей для хранения сена, которое ещё нужно было накосить. Овца, привязанная к столбу, стояла не шелохнувшись, наблюдая за приготовлениями человека. Наконец, Мокшин словно вспомнил о ней, ушёл в дом и вернулся с пластмассовым ведерком воды, захотел поставить его ближе к животному, но овца, дернувшись в испуге, наступила ногой в ведро, перевернула его, и забилась подальше от Мокшина в дальний угол.
– Что за трусиха такая? – сказал он. Взял ведро, снова сходил в дом и теперь поставил его в стороне. Сам опять ушел.
Вернулся Мокшин с несколькими кусками хлеба, натертыми солью. Когда открыл дверь в сарай, увидел, что овца пьет, но та, услышав его, побежала в свой угол, остановилась и стала выжидающе смотреть на Мокшина.
– Это другое дело! – сказал он громко. – Ты, моя хорошая! Не стесняйся, пей, ешь, теперь я буду о тебе заботиться. Понимаешь?! – Он подошел ближе к овце и протянул ей кусок хлеба. Она уже не убегала, видимо, впрямь понимая, что теперь полностью зависит от этого человека; оставалась не месте. – Да ешь же! Ешь! Небось с утра никто тебя не кормил, – повторил несколько раз Мокшин. – Овца, и впрямь голодная, долго не заставила себя уговаривать, осторожно потянулась к его руке и взяла хлеб, сжевала его, и приняла и другой, и третий куски.
– Умница, – сказал Мокшин. – Будем дружить. Как же тебя называть? – Он задумался. Ни прежний опыт жизни, ни теперешнее положение сельского жителя, – ничего ему не подсказывало, какую кличку дать животному. В голову приходили одни человеческие имена. Он вспомнил, что старуха Новикова говорила, что призывать овец надо каким-то замысловатым словом или звуком «бась-бась». Мокшин произнес это вслух. Овца неожиданно встрепенулась и внимательно уставилась на Мокшина.
– О-о! Да никак в самом деле «бась-бась» что-то значит на твоем бараньем языке? А ты знаешь, я тебя так и буду окликать – Бася.
Овца, похоже, с ним согласилась.
Так у Мокшина, помимо работ по саду и огороде, домашних хлопот, капитального ремонта жилья, который он наметил на предстоящее лето, появилась ещё одна забота – овца Бася. И, пожалуй, из всех занятий он все больше и больше любил именно ходить за этим безобидным и тихим животным.
Утром рано Мокшин баловал овцу куском хлеба, потом поил, и уводил по выгону между домами в поле, ближе к подлеску. Там, выбирая каждый раз место с травой получше, навязывал её, забивая в землю стальной прут с ушком, и овца, оставаясь на длинной веревке, была предоставлена сама себе. Мокшин возвращался в сарай, убирал в загоне ночной помет, стелил свежую солому, и шёл работать по дому. Он еле дожидался обеденного времени, чтобы пойти к овце. Нес ей ведерко со свежей водой, кусочек хлеба. Это были минуты невозможной, кажется, сентиментальности. Ещё очень крепкий и сильный мужчина, которому за долгую жизнь не удалось излить кому-либо из людей накопившиеся нежность и ласку, которые посторонним было трудно разглядеть за его грубоватой наружностью, теперь трогательно и умилительно, как за малым ребенком, ухаживал за овцой. Пока она жевала хлеб, он осторожно перебирал и разглаживал её мелкие серые кольца шерсти, вытаскивая из них иногда колючки репейника; заглядывал в её влажные, кроткие и большие глаза, в которых отражались полевые цветы, облака, сам Мокшин. И в эти минуты он совсем не хотел ни о чем думать или что-то вспоминать, например, о прошлом, которое казалось ему далеким и каким-то не совсем его. Потом овца, насытившись, отходила в сторону, ложилась, поджав ноги; ей уже было тяжело из-за ещё больше округлившихся боков, дышала она всё труднее и чаще. Мокшин смотрел на неё заботливым взглядом и который раз про себя повторял когда-то услышанное: «шуба овечья, а душа человечья», замечая, как это правильно кем-то сказано, – в точности про его Басю.
Мокшин расстилал на траве принесенный с собой груботканый половичок и ложился на него навзничь, потягиваясь с хрустом в костях, и жмуря от удовольствия и солнца глаза. Он за всю жизнь столько не бывал на природе, не лежал на траве; и он наслаждался царившим вокруг покоем, и ему казалось, что именно так, наверное, должно быть в раю, если он в самом деле есть. И Мокшин временами даже засыпал в таком благостном состоянии и под стрекот кузнечиков, шум ветра в ближних осинах и березках, и очень-очень далекий, похожий на полет зеленой мушки, звук проходящего высоко в небе самолета.
В августе Бася окотилась двумя ягнятами. Детки были все в неё, такие же серые, с черными чулками повыше копытец и такими же черными хвостиками. Первые дни ягнята с овцой оставались в сарае. Забот прибавилось и у Мокшина, но это его ничуть не расстраивало, наоборот, он был с раннего утра до темноты, которая летом наступает поздно, весь в занятиях; два раза на день он успевал ещё и подкашивать для овцы свежей травы, которую приносил ей прямо в загон; увеличил овце и пайку хлеба, переживая: хватит ли у неё, такой молоденькой, сил выкармливать ягнят, которые, как ему казалось, просто приросли, как пиявки, не давая ей ни отдыху, ни продыху, жадно опустошая её маленькое бархатное вымя. Но уже через неделю овечья семья по настоянию Новиковой отправилась в поле. И, удивительное дело, вслед за ними стал ходить и пастись рядом, до этого бесцельно слонявшийся по Подъёлкам козел Яшка. Никто не знает и не скажет, что думает, способно ли вообще думать это копытное, отличающееся особой строптивостью и своенравностью. Но, видимо, ему тоже надоела одинокая жизнь. Если овца по-прежнему оставалась на привязи, то козел был свободен от ошейника, однако никуда не уходил, бродя или отлеживаясь неподалеку от овцы и ягнят. А когда в их сторону направлялась какая-то из местных собак, козел вскакивал, как на пружине, бодливо опускал рога и бросался отчаянно на незваных пришельцев, гоня прочь от этого места.
– Стадность это у них, как у людей потребность в семье! – сказал по этому поводу ветеринар Сторожев, сидя субботним днем в гостях у Мокшина, который его пригласил осмотреть ягнят и овцу, которыми остался очень доволен.
Мокшин, накрывший на радостях гостеприимно стол, и оказавшийся тут же неизменный сосед Новиков, сидели за «беленькой».
– Какая семья? – Сторожева решил поправить Новиков. – Яшка то, сам знаешь… даже как козел неполноценный.
На что ветеринар ответил:
– Ну и что? У тебя, конечно, есть старуха, ты уже привык, что у тебя она есть, не одинок. А я вот знаю, и Василий знает, как трудно быть всегда одному. Взять опять же меня. Нет у меня семьи, но через стенку живет вдова Мишина, думаю, что самая скверная по характеру на свете женщина. А мне всё равно легче от того уже, что она тоже живая душа, и поговорить с нею могу, даже по-соседски поругаться… – Он задумался, налил себе полстаканчика и выпил. – Ты, старик, знаешь, были такие люди – евнухи. Это были тоже очень одинокие люди, как и наш козел Яшка, но не было более преданных и заботливых слуг, чем они… Поэтому могу ещё раз утвердительно сказать, что есть у всякого одинокого живого существа, даже у такого скота, как Яшка, потребность – быть не одному.
Мокшин, тоже захмелевший, внимательно слушал Сторожева, не перебивал. Ему казалось в этот момент, что он, хотя бы не знает ни овечьего, ни козьего языка, но тоже очень хорошо понимает настроение, которое было – он это видел и наблюдал – у несчастного Яшки, так привязавшегося к Басе и её деткам.
Сторожев налил себе и другим ещё.
– Впрочем, из тех людей, кого знаю, есть всё-таки один человек, которому, похоже, нравится быть одному. Но он и не человек, он вор, потому что только вору не нужен никто.
Мокшин, несмотря на то, что захмелел, насторожился.
Ветеринар выпил после других свой стаканчик:
– Был бы сейчас трезвый, наверное, не стал об этом вспоминать и говорить. Но, знаете, на той неделе со мною был случай, который не дает покоя…
Сторожев посмотрел на Мокшина и Новикова жалостливыми глазами: – Вы уж не рассказывайте, пожалуйста, никому, стыдно, что такое произошло. Хотя верно говорят: «если знает петух или курица, узнает и вся улица…»
– Ну что у тебя за манера, Сторожев, тянуть резинку от трусов, – сказал нетерпеливо Новиков. – Начал говорить, договаривай.
Я не схватил вора за руку, но вор был. Это Мишка Урбан… На той неделе у себя в конторе я получил зарплату. Все деньги, – он, демонстрируя, сунул правую ладонь во внутренний карман пиджака, – положил сюда и даже застегнул пуговицу. Отделил только сотенку в боковой карман. Складчина получилась неплохая, поэтому и выпили хорошо. Так говорю потому, что не помню, как шёл потом домой, но провожал меня Урбан. Он, ты, старик, знаешь, всегда приходит к конторе, когда дают зарплату. Знает, что и ему дармовщина перепадет. Так было и в тот день. Наутро я из зарплаты не досчитался тысячи рублей. В тот же день обошел всех ребят, расспрашивал их, думал, что сам и выложил по пьянке, но ребята сказали, что сдал в складчину только ту самую сотенную. Потерять их не мог, потому что внутренний карман утром так и оставался застегнутым. Вот и думаю теперь, что всё же это дело рук Урбана. Но, говорят – «Не пойман – не вор» – закончил Сторожев.
Мокшин после его слов заметно побледнел, заходили желваки на его скулах, и он неожиданно так сжал в руках свой стаканчик, что тот с треском лопнул.
Новиков и Сторожев уставились на него испуганно- вопросительно.
– Не обращайте внимания, – сказал Мокшин, – такое бывает со мной, когда переживаю, а твой рассказ, Сторожев, меня сильно взволновал.
– Как тут не поволнуешься, – подтвердил Новиков. Зарплата не так уж велика, знаю. И потом, как жить, если нет тех денег… – Он в сердцах тоже стукнул кулаком по столу. – Вы ведь знаете мою историю с петухом… Конечно, его рук дело… Вот сволочь!.. Крыса!.. У своих же, рядом, ворует. А ты, Сторожев, с ним говорил?
– Да, спросил и его на следующий день, может что знает?
– И что ответил? – спросил Новиков.
– Сказал, не знает, что и думать, может я потерял их… Потом добавил как-то даже красиво, по-книжному: «Не огорчайся, Сторожев, стало быть, на всё «воля божья», так и должно было случиться».
– Что верно, то верно, – сказал Новиков. – На все воля божья.
Мокшина после последних слов словно взорвало:
– Что у вас в Подъёлках за манера по каждому случаю ссылаться на «волю божью»! Слышу по нескольку раз на день, как от попугаев. Хреновая то воля, раз случаются такие злодейства, а вы и миритесь с ними. Нет здесь никакой «воли божьей»! Урбан обыкновенный вор и плут, которого нужно остановить.
Сторожев и Новиков снова уставились на него удивленными глазами, ожидая, что Мокшин, как новый человек, в самом деле предложит им что-то неожиданное. Но Мокшин точно также внезапно замолчал. Ему нечего было сказать.
Возникла длинная пауза, после которой гости пошли домой, а Мокшин к своим овцам.
Прошел ещё месяц, лето шло на убыль. У Мокшина дела шли хорошо; подрастали ягнята, Бася стала совсем ручной, и вся овечья семья так прочно вошла в быт и жизнь Мокшина, что он себе теперь свою жизнь иначе и не представлял. Для Мокшина было совершенно очевидно, что овца Бася или её ягнята никогда не окажутся на его столе, он даже не допускал такой мысли. В нём за несколько месяцев, прожитых в деревне, ещё не вызрело привычное для крестьянина восприятие любой имеющейся на подворье живности, как средству для его существования. Он просто любил свою овцу Басю и ее ягнят. И ничто Мокшину не предвещало чего-то грозного и страшного, что могло произойти в его судьбе.
Частые для этого времени года – после Ильина дня – грозы полыхали лишь на далёких черно-синих горизонтах, обрушиваясь изредка и на Подъёлки вспышками молний, громом и сильным проливным дождем.
Среди недели Мокшину понадобилось поехать в город за строительным материалом. Он долго задержался по складам и магазинам и, возвращаясь домой, сильно из-за этого нервничал, мучаясь тем, что надолго оставил Басю и ягнят. Заехав во двор, Мокшин, у которого никак не могло улечься волнение, которое он не мог понять, вошё в дом, взял, как обычно, хлеб, воду, и пошел в поле.
Было очень тихо. Воздух словно застыл в ожидании очередного ненастья, которое вызревало в сгущающихся лиловых тучах далеко на западе, и там были видны уже рассекающие небо электрические разряды. И сами Подъёлки тоже будто замерли в ожидании грозы; по селу не было слышно ни собак, не видно никого из людей.
Мокшин направился к месту, где утром навязал овцу. Но на подходе не увидел её, как обычно, издали. Сердце у него учащенно забилось, он побежал, расплескивая воду в ведёрке. Наконец, за кустом боярышника увидел ягнят, как-то необычно жавшихся друг к дружке, и Яшку. Овцы не было. Мокшин обернулся вокруг, и вдруг заметил свою веревку. Была она обрезана. Он машинально прошёл ещё несколько шагов и остолбенел. В траве, сильно вытоптанной и забрызганной кровью, успевшей загустеть и почернеть, лежала серая овечья шкура, и в спешке кем-то выпростанные из туши и брошенные внутренности, которые уже облепили мухи… Мокшин уронил и ведерко, и хлеб… Обернулся назад и уставился вопросительным взглядом на Яшку, словно ожидая от него какого-то ответа. Но тот молчал и смотрел на человека своими козлиными, не моргающими глазами.
– Кто?! – сиплым голосом прохрипел Мокшин. – Его всегда красное лицо теперь было бело, как мел. Под кожей скул нервно перекатывались желваки, плотно сжатые губы сжались в одну скорбную полоску, даже был слышен скрежет зубов из-за сильно сдавленной челюсти.
Человек и козел ещё какое-то мгновение смотрели друг на друга. Яшка продолжал молчать, но в его взгляде Мокшину показался немой укор. Мокшин не выдержал и с криком бросился назад в село. Ситцевая рубашка от бега на нём надувалась парусом, но он не чувствовал ни тяжести бега, ни одышки, которые у него обычно возникали при быстром беге. Он и не видел перед собой, и не слышал ничего три сотни метров, что оделяли жуткое место от его дома в Подъёлках. С помутненным взором он остановился только тогда, когда его неожиданно окликнула Сирота, шедшая домой из Красного. Мокшин резко остановился, хотел ответить, но у него так перехватило дыхание, что из груди вырывались только сиплые звуки, и не было возможности разобрать слов. Наконец, он чуть отдышался и рассказал ей об овце. Сирота отступилась от него на шаг и несколько раз перекрестилась, тараща на Мокшина наполненные страхом глаза, и бормоча о какой-то «божьей воле».
– Кто бы это мог сделать? – спросил Мокшин. – Ты была сегодня дома, видела кого постороннего в селе?
– С утра была дома. Потом пошла мыть полы в приход. Вот возвращаюсь. Никого не видела чужих. И грибников сегодня не было.
Мокшин неожиданно сказал:
– А Мишки Урбана в селе не было?
– Был, – ответила она, – но он же свой, не чужой.
Мокшин её уже не слушал. Он не пошёл домой, развернулся и снова побежал, теперь в Красное.
На бег сил не хватало, тогда он переходил на быстрый шаг, сильно и нервно размахивая руками, которые у него, как и ноги, налились железной тяжестью. Он превозмогал её, стараясь, наоборот, еще крепче сжимать кулаки – так было легче, и всё также сдавливать челюсти. Он не смотрел по сторонам, не видел вокруг бескрайнее поле пшеницы, не чувствовал внезапно пронесшегося волной по колосьям сильного ветра, и не ощутил начавшие сильно и резко падать крупные и холодные капли дождя. Его воображение занимала только картина недавно виденного на выгоне. Все остальное сознание, как и окружающая его теперь местность, словно потонуло в сумерках. Временами появлялись какие-то проблески света. Ему даже слышалось блеяние Баси, и он резко оборачивался, но не было никого вокруг. И только уже разошедшийся во всю дождь, промочивший всю одежду, продолжал хлестать Мокшина по лицу, и сильные вспышки молнии освещали ярким светом дорогу, и дрожал вокруг воздух, сотрясаемый резкими и раскатистыми ударами грома. Но его это не пугало, как теперь уже ничего не могло испугать. И даже когда в метре от него в землю ударил разряд молнии, так что вскипела вода в лужице, он лишь запнулся на ходу, и резко остановился, и поднял лицо к небу; хотел машинально перекреститься, поддаваясь, как любой человек, первобытному животному страху то ли перед богом, то ли неизвестностью, царящей в природе, но не смог, так как не был верующим, и получилось, что как-то неуклюже осенил всё же себя кулаком по лбу. В его глазах тут же вспыхнула досада за сделанную глупость. Но Мокшин опять посмотрел вверх будто в последней надежде увидеть там нечто, или услышать что-то вразумительное или успокаивающее, хотя знал, что ничего не увидит и не услышит. И он не увидел ничего, кроме стремительно продолжавших нестись очень низко тяжелых туч. Но из их бездонной прорвы ему вдруг почудился голос, твердивший, как и все жители в Подъёлках, что на всё на этом свете «воля божья». Он даже улыбнулся чуть-чуть по поводу этого, и сказал вслух: «Оказывается, всё так просто. На всё есть «воля божья»! – И он стал думать о том, что и он тоже теперь бежит в Красное по «воле божьей», она его туда ведёт, и там должно что-то свершиться по «воле божьей», – и это придавало ему необыкновенную силу.
Мокшин подошел к церковной ограде, когда дождь уже переставал. У ворот встретил лысого и рыжебородого попа, который, видимо, только вышел на улицу подышать свежим воздухом и прогуляться. Был он в рясе, поверх которой одета толстая вязаная кофта, застегнутая на все пуговицы.
– Где Урбан? – коротко и резко спросил Мокшин.
– Зачем он вам? – ответил поп, с подозрением оглядевший Мокшина.
– Раз спрашиваю, значит надо! – сказал Мокшин, наступая на него. Тот отошел и показал рукой в сторону приземистой постройки в дальнем углу ограды.
– Там у нас котельная, в ней и находится сторож-истопник. Он, кажется, готовит ужин.
Только после этих слов Мокшин действительно почувствовал разлитый в сыром воздухе печной запах и увидел дымок над трубой постройки. Он решительно шагнул в её сторону. Когда Мокшин потянул на себя дверь – первое, что ощутил – сладкий запах мясного варева. Потом увидел стоящего к нему спиной у плиты Урбана. Вид Мокшина был так страшен, что у обернувшегося к нему Урбана мгновенно подкосились коленки. Однако испуг, пробежавший по лицу Урбана мелким и частым миганием век, дрожью в лице, быстро прошёл, как у всякой натворившей дел твари, которая понимает, что нужно отвечать, и что лучше всего не бежать, потому что и некуда, а самому первому нападать, руководствуясь этим девизом на самом деле слабых и трусливых, а не сильных людей, вроде уличной шпаны. Привыкший жить своими практическими интересами, холодный в своей жестокости, Урбан, стараясь придать голосу безразличный тон, сказал:
– Знаю, зачем пришёл. Я бы завтра сам к тебе явился и всё объяснил. Понимаешь, у попов сейчас какой-то пост, и я уже устал за этот месяц от их яблок, каш, меда и прочей ерунды. Так уж получилось, что пошёл я с утра по грибы, и увидел овцу… Захотелось мясца… Поначалу даже не знал, что твоя. Потом только до меня дошло, что больше никто в Подъёлках такую живность не держит. Извини. Как говорится, «на все воля божья». Можно было взять ягненка, да какой с него толк, а Яшка, сам знаешь, старый козел. В общем, я к тебе завтра зайду и заплачу, узнаю только, почем теперь баранина.
Мокшин его слушал молча, но не слышал, что ему сказал и продолжает говорить этот человек. Он не думал и о том, насколько продолжает быть циничен и нагл Урбан в своих словах. Перед ним лишь был по-прежнему образ потерянного безвозвратно любимого существа, которое доставило ему так немного счастья в последнее время; Мокшин видел перед собой притягательные в своей доверчивости и покое глаза любимой овцы. И он никак в этот миг не мог поверить, и ему было чудовищно, дико и нереально понимать, что в огромной кастрюле, стоящей на плите, сейчас то, что осталось от его нежной и ласковой Баси.