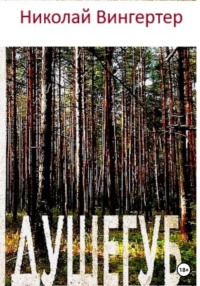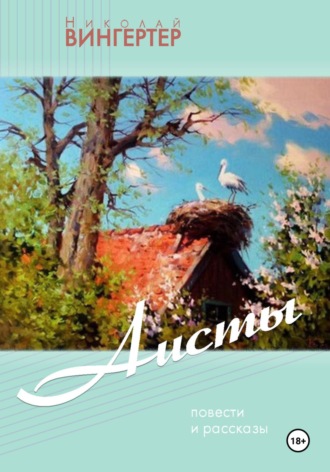
Полная версия
Аисты
Царящая в павильоне суета передается Рыжей, и она – откуда силы взялись? – уже резво перебегает из ряда в ряд, от прилавка к прилавку.
Вдруг она увидела свесившуюся со стола ножку цыпленка. Рыжая потянулась было к ней, но, устыдившись своего желания, отошла в сторонку с надеждой, что всё же её угостят. Однако по-прежнему никто не замечал дворняжку с пустыми, отвислыми сосцами, и неожиданно для себя она снова и снова оказывалась у прилавка с куриной ножкой. Наконец, пересилив свою собачью гордость, осторожно приподнялась на задние лапки, передними уперлась в прилавок, и стянула за ножку небольшую курицу. Тушка оказалась тяжелее, чем ей думалось, она сразу не смогла её ухватить, а потом, ухватив, от волнения уронила на пол, затем опять схватила тушку, крепче сжала её зубами и помчалась к выходу.
– А-а-а … лови воровку! – орал продавец, пытаясь выбраться из-за прилавка.
А Рыжая бежала по длинному проходу, не чувствуя лап. Вот и входная дверь. "Ну, ещё немного … Быстрей, быстрей, к щенкам … " – мелькало в её черепушке.
Она не знала, что все время, пока бродила по павильону, за нею, от нечего делать, наблюдал другой мясник. Он видел, как небольшая сука нетерпеливо бегала между мясных рядов, а потом остановилась у свисавшей с прилавка ножки цыпленка, несколько раз к ней подходила, примериваясь, и всё же стянула. Теперь он ждал её с сеткой для ловли птиц в конце ряда, по которому бежала собака.
Рыжей больно ожгло глаза, она кувыркнулась и оказалась в воздухе. Чьи-то железные руки схватили её за горло, стали душить и бить. У неё в глазах вначале вспыхнул целый сноп из желтых и красных искр, потом всё потемнело, и вскоре она уже не чувствовала никакой боли, а только слышала словно чужой, а не свой отчаянный собачий визг … И только где-то далеко-далеко у неё еще теплилась мысль, что она во что бы то ни стало должна попасть к щенкам.
Мясник сунул полуживую собаку в мешок, перевязал его, бросил в клеть подсобки и пошёл. Но тут же вернулся назад с продолжающими вращаться от злости глазами, вытащил собаку из мешка, оттащил её в угол и с треском придавил лапку в капкан, который ставили на крыс: "Так-то надежней будет, а то ещё мешковину прогрызет. А уж завтра на живодерню … "
Утром, когда мясник пришел в подсобку, собаки не было. Он стал шарить в полутьме по клети и нашел капкан, а в нём… маленькую рыжую лапку.
– Н-не может быть, не может быть! – только и повторял он, пятясь к выходу. – Ну волки, лисы … – продолжал бормотать мясник, – но чтобы дворняга…
А Рыжая выжила наперекор злому року, потому что жизнь её хотя и была собачьей, но не могла она бросить умирать своих щенков. Потом её часто видели на улицах города, прыгающей на трех лапах; вместо четвертой – культя. Рядом с нею бегут две похожие на неё собачонки – её дети, которых она оставила одних в тот злополучный день.
ПАЛ ПАЛЫЧ
(рассказ)
Павел Павлович Булкин, или просто Пал Палыч, как чаще к нему обращались, проснулся от яркого солнечного света, который ворвался из-за плохо задёрнутых штор. Он натянул на голову одеяло, собираясь поспать ещё, но от укуса комара зачесалась лодыжка, и он стал тереть о другую ногу так, что ходуном заходило одеяло. Но зуд не стихал, а наоборот, стал сильнее. Пал Палыч злой соскочил с постели, подошёл к холодильнику, из бутылки плеснул на укушенное место водки и только после этого успокоился.
– Комариное отродье! – сказал он вслух и погрозил кулаком невидимым врагам, которые к утру затаились по щелям и другим потайным местам его однокомнатной квартиры.
Был первый день, как он вышел на пенсию. После вчерашних проводов, устроенных по этому поводу, гудела голова. Чтобы успокоить её, он прямо из бутылки хотел отпить глоток, но передумал и налил водки в гранёный стаканчик. В горле сначала обожгло, потом прохладный комочек растаял и согрелся где-то внутри, и почти сразу прекратился противный шум в голове. Пал Палыч удовлетворённо тряхнул головой, закурил и задумался, чем бы заняться. До вчерашнего дня ему, военному человеку, думать почти не приходилось, потому что существовали приказы, и он их выполнял. С сегодняшнего дня всё резко переменилось – он стал пенсионером. Приказов никто не отдавал, и он вынужден сам думать, как распорядиться этим днем, а потом другим днем и другим… И чем больше думал, сидя на табуретке и почесывая комариный укус пяткой, крепкой, как подошва армейского сапога, тем туманней для него выглядело будущее. Часы уже показывали десять, и он завидовал своим бывшим сослуживцам, которые сейчас, видимо, собрались в кабинете майора Ржаного, читают утренние газеты, пьют чай, обсуждают последние новости и ждут, когда дневальный позовет их в столовую обедать. После солдатской каши и борща, кровь сильно приливает к желудку, отливая от головы, и тогда вовсе ничего не хочется делать, а почему-то тянет спать. И после обеда все офицеры куда-то разом исчезают. Сам Булкин обыкновенно уходил в свою каптерку выполнять приказ, как монах – послушание, суть которого сводилась к тому, что он должен был перебирать бумаги, сдувать с них пыль и следить, чтобы в полковом архиве тля не поела военные секреты. Но уже на третьей-четвертой папке с документами его так клонило в сон, что он ронял голову на грудь, потом валился грудью на стол и засыпал до конца рабочего дня. Это была его служба, это он делал каждый день в течение многих лет; ничего другого он делать не умел и не пытался. И сегодня, когда службы не стало, он ощутил себя вроде бутылочной пробки, которую бросили в прорубь: она не тонула, но и больше не была нужна. А самым скверным для него было, пожалуй, то, что совершенно не с кем поговорить.
– Пр-р-ривет, – сказали в коридоре.
Пал Палыч вытянул шею. Шум в голове прошел, и послышаться ему не могло.
– Пр-р-ивет, – как-то странно растягивая слово, опять произнёс кто-то.
– Фу ты! – хлопнул себя по лысине Пал Палыч.
Он вышел в коридор. В тёмном углу, в клетке, сидел попугай. Его накануне подарили Пал Палычу бывшие сослуживцы, а после вечеринки он совсем забыл о птице. Поставив клетку с попугаем на стол, стал разглядывать подарок.
Это был насыщенного зеленого цвета большой амазон; по крыльям и хвосту у него проходили, как молдинги у легковушек, голубые полоски, а справа и слева от клюва висели красные сережки. Глаза он имел чуть выпученные, томные и немного нагловатые.
– Пр-р-ривет, – опять произнесла птица.
– Чудеса! – сказал Пал Палыч. – А какие ещё ты знаешь слова?
– Дур-р-рак…
– Плохое слово. Будешь его повторять, я из тебя сварю суп.
– Др-р-рама, – ответила птица.
– Да ты никак соображаешь?! – восхитился Пал Палыч. – Ты случайно не из цирка?
– Цир-р-рка, – повторил попугай.
Это окончательно привело в восторг Пал Палыча. Он осторожно поднял клетку, словно в ней сидела волшебная жар-птица, и переставил на подоконник; открыл дверцу, протянул руку, чтобы погладить попугая, но тот ущипнул его за палец.
– Недотрога! Ты, наверное, хочешь есть? Чем же тебя накормить? Вы, попугаи, говорят, едите зерна и фрукты. Знаешь, у меня нет ни того, ни другого. Могу предложить хлеб. – Пал Палыч раскрошил черствую корочку.
Попугай вышел из клетки, покосился на крошки одним, потом другим глазом, и ушел обратно в клетку.
– Напрасно, – сказал Пал Палыч, – я тебе не смогу покупать всякие там киви и ананасы, – пенсия не позволит. Есть будешь то, что ем я, а иначе дам комбикорма, яйца начнешь нести, как курица.
Угроза, похоже, подействовала, попугай снова вышел из клетки и стал склевывать хлебные крошки.
– Узнаю наших! – сказал Пал Палыч.
Продолжая подбирать крошки, птица подошла к стаканчику с остатками водки, опустила в него клюв и запрокинула голову.
– Во даёт! – воскликнул Пал Палыч.
Попугай ещё раз опустил клюв в водку и вдруг полетел, но не дотянул до люстры, на которую нацелился сесть, упал на пол.
– Пикировщик хренов, – сказал Пал Палыч и поднял птицу. – Где же ты водку пить научился?
Он бережно посадил попугая назад в клетку, уселся перед ним и так просидел с полчаса, пока птица не пришла в себя.
У Пал Палыча появился друг. Старый холостяк привязался к птице так, что вскоре и не представлял без неё свою жизнь на пенсии. Он совсем не вспоминал о каптерке с пыльными и никому не нужными секретами; по утрам перестал даже заходить в киоск за «Комсомольской правдой», находя более занятным общение с попугаем. Позавтракав по обыкновению хлебом с селедкой, выпив стаканчик водки, капелькой которой смачивал сухарь для птицы, Пал Палыч усаживался удобнее и, подперев ладонями голову, весь день любовался попугаем и разговаривал с ним. А попугай, которого он так и продолжал называть просто «попугаем», от нескольких капель спиртного становился очень болтлив. Птица удивительным образом пристрастилась к спиртному, в котором, может быть, находила что-то естественное и необходимое для себя, что имелось в перезрелых плодах где-нибудь в лесах Амазонии или Океании. Пал Палыч вспоминал когда-то слышанную фразу, если с попугаем долго говорить, он обязательно ответит. И рассказывал своему закадычному дружку самые разные нелепости. Попугай, в свою очередь, из потока слов улавливал одно, которое нравилось, и повторял вслед за Пал Палычем. По такому случаю бывший капитан наливал стаканчик и выпивал за успехи своего питомца. Кроме слов «привет», «дурак», «драма» и «цирк», попугай научился еще доброму десятку. Птица словно понимала, что её беззаветно любят, ей все дозволяется и прощается. Попугай ходил и летал, где хотел; его помёт можно было найти и на спинке стула, и на столе, и на плите или даже в сковородке, в которую он садился, чтобы поклевать недоеденную и засохшую с вечера яичницу. Но особенно, после нескольких капель спиртного, ему полюбилось вылетать на балкон, развалиться на подоконнике и греться на солнышке, которое не уходило отсюда до обеда. Тогда его взгляду открывался перекресток двух оживленных городских улиц, шумевших машинами, трамваями, голосами людей. С высоты четвертого этажа он видел толпу не способных летать людей и никак не мог взять в толк, отчего они в такую жару не лежат, как он, а бегают и суетятся, похожие на муравьев. Он много ещё о чем рассуждал, наблюдая за жизнью людей, сильно отличающейся от жизни попугаев. Но философствовать подолгу подобным образом попугаю нередко мешал совершенно пустой желудок – из-за той жизни, которую ему устроил Пал Палыч.
Однажды, прогуливаясь по балкону, попугай просунул голову между прутьев и внизу увидел мешок, полный семечек, которыми торговала толстая девица. Не задумываясь, он слетел туда. Девица с испугу вскочила, нечаянно опрокинула мешок, стоявший на высоком ящике, и семечки рассыпались по тротуару. Откуда-то тут же налетели голуби, поднялся переполох, прохожие кричали: «Лови попугая!» Но он вовремя почувствовал опасность и взлетел на свой балкон, выкрикивая на потеху улице: «цир-р-рк», «др-р-рама»!
Так прошло три месяца. За это время попугай пополнил свой «словарный запас» не только лексикой от Пал Палыча, но и незамысловатыми словечками посещавших иногда квартиру гостей из части, где прежде служил военный пенсионер Булкин. Гости приносили много водки, а попугаю экзотические фрукты, и тогда случался настоящий праздник. Очень быстро тосты иссякали и пили в основном за попугая, который без устали развлекал народ. Все это время попугай обожал сидеть обязательно на плече у кого-либо из сослуживцев Пал Палыча. Его, очевидно, привлекали яркие погоны и блеск звездочек. Словно пытаясь определить пробу, он азартно царапал когтями и колупал клювом звездочки. Однажды, поклевав майорскую звезду Ржаного, развернулся и дернул хвостом прямо над погоном.
Пауза.
– Ах ты, петух гамбургский! – схватил попугая Ржаной. – Ты что творишь? Погоны совсем новые, только поменял.
– Др-р-рама! – вытаращил в ужасе глаза попугай.
– Это ещё не драма, – сказал Ржаной. – Драма будет, если из тебя, павлин ты индийский, какая-нибудь Мурка сделает чахохбили.
Ржаной выпустил из рук дрожащую птицу. Амазон тут же взмыл на гардину и послал ему:
– Пр-р-ривет!
– Пал Палыч, все смотрю я на твоё пернатое чудо и думаю знаешь о чём? – сказал быстро повеселевший майор.
– Н-не знаю, – протянул пьяный Пал Палыч.
– Любят цари и президенты, чтобы в гербах их стран непременно были орлы, ещё и с коронами на головах, – продолжал Ржаной, – а что толку? Всё одно – плохо живут люди. А вот есть, говорят, где-то такая страна, в гербе которой попугай, даже два попугая… Так там народ хорошо живёт, с утра и до вечера веселятся.
Пал Палыч в ответ лишь солово улыбался.
Становилось заметно, что, в отличие от своего питомца, Пал Палыч, наоборот, день ото дня глупел, напиваясь порой до такого состояния, когда уже не мог членораздельно произносить слова, а только издавал телячьи звуки, которые попугай не мог повторить. Жилье Пал Палыча уже стало и вовсе не жилье, а его подобием, пропиталось помимо обычных запахов водки, селедки и табака, ещё и аммиаком и выглядело до того неопрятно, что соседи даже брезговали переступать порог его квартиры. Зато вольготно здесь чувствовал себя попугай. В квартале, где жил Пал Палыч, о его друге попугае сочиняли целые легенды. И Пал Палыч, постоянно пьяный, был от этого счастлив необыкновенно, как ребёнок. Ему казалось, что за все прожитые годы не было у него большего повода для гордости, чем этот амазон. Он всей душой прикипел к попугаю и полюбил его той загадочной любовью, которая иногда возникает между людьми и братьями нашими меньшими, и которую постороннему трудно понять. Если бы у Пал Палыча была хотя бы пару минут трезвая голова, то, наверное, он смог бы объяснить эту любовь: в первую очередь глубоким одиночеством своей души, ожиданием всю жизнь чего-то необычного, яркого и доброго, как сказка, которой всегда не достает взрослым. Но и этой сказке с одним действующим персонажем – говорящим попугаем – пришёл конец. Жизнь чудо птицы закончилась неожиданно и трагически.
Пьяные утренние возлежания попугая на балконе давно приметил соседский кот. И как-то раз, когда Пал Палыч проснулся после утреннего похмелья и вышел на балкон покурить, то вместо попугая обнаружил кучку перьев.
Для Пал Палыча это было ударом более тяжелым, чем когда-то уход любимой женщины и даже выход на пенсию. Несколько дней он не покидал квартиры, мало спал, не ел, но много пил, переживая гибель друга. И это стало последней каплей для его уже и без того истощенного организма и ослабленной нервной системы. На четвертый день, после привычного стаканчика водки, ему внезапно показалось, что перед ним появился черный кот. Он не был похож на соседского, и таких котов он в жизни не видел. Он совершенно отчётливо видел перед собой огромные жёлтые глаза с удлиненными в прищуре зрачками и красный, облизывающий морду язык. Кот был необычный, больше самого Пал Палыча, потому что Пал Палыч почувствовал, что стал… попугаем. Спасаясь от преследования кота, он выскочил из квартиры в подъезд дома, потом на улицу, и стал просить помощи.
– Я попугай, спасите меня от кота! – вопил он, распугивая играющих в песочнице детей.
Очень быстро приехала вызванная кем-то специализированная бригада скорой помощи.
– Я попугай! – бросился к ним Пал Палыч, указывая куда-то перед собой. – Он хочет меня съесть!
– Конечно, попугай! Вам обязательно поможем, – успокаивал его врач. – Сейчас вас посадят в золотую клетку, и всё будет хорошо.
– Не хочу в клетку.
Пал Палыч, словно почувствовав опасность другого рода, стал от них убегать. Его догнали, надели на него смирительную рубашку и повели к машине. Он сопротивлялся и, подражая скрипящим и шипящим звукам попугая, кричал:
– Пр-р-ривет, дур-р-раки, др-р-рама!..
НАВАЖДЕНИЕ
(Рассказ)
В последнее воскресенье марта был праздник, вербное, поэтому народу в церкви собралось больше обычного. Вера Ивановна Засекина, в девичестве – Бездетная, из постоянных прихожан, не смогла пройти к иконе Богоматери Семистрельной, у которой обычно стояла, и как-то незаметно оказалась оттеснённой к распятию. 0на не то чтобы не любила это место, – в церкви везде хорошо, – но чувствовала себя здесь неуютно. Прямо перед нею находился большой деревянный крест, а на уровне глаз – Адамова голова, и казалось, что стопы Спасителя давят не только на череп первочеловека, но и на неё, подчеркивая и её бренность. Вере было неприятно, что приходилось смотреть на кости, а не на светлый лик Богородицы, который она привыкла видеть перед собою во время службы. И невольно возникали мысли о смерти, появлялось беспокойство за мужа и детей.
Время от времени кто-то протискивался к кануну, желая поставить свечу за упокой близких, но все подсвечники и все отверстия в большом латунном листе перед распятием были заняты, и многие оставались стоять с незажженными свечами в руках и с недовольными лицами. "Господи, да откуда же их сегодня столько-то?" – сказал кто-то рядом. "Мрет нынче народ, сильно мрет…" – подхватили тему другие соседи. А она, чтобы не видеть людей, в чьих глазах были печаль и суетливо-торжественная обеспокоенность тем, как отметиться в церкви, – опускала веки и слушала проповедь священника, который сегодня говорил о гармонии чувств, о прощении и о любви к ближним.
Гуляющие где-то наверху, под куполом, сквозняки порой срывались вниз, сдувая с кануна жар горящих свечей, и её обдавало густым теплом воска и мёда; у неё слегка кружилась голова и начинало казаться, что в потоке горячего воздуха Адамова голова оживает, смотрит на неё пристально своими мертвыми глазницами и пытается разгадать ее мысли, а вся проповедь священника обращена только к ней, Вере Засекиной. И она вздрагивала, напрягалась и ждала, что батюшка вот-вот укорит её за то, что неправильно живёт, что не пристало ей вместо любви испытывать чувство холодности к младшему сыну Алексею. Но батюшка не замечал и не выделял её в море вздыхающих и молящихся людей, а только благословлял всех и просил за всех об отпущении грехов и прегрешений. И она тоже думала, что до Пасхи обязательно должна сходить исповедаться и причаститься.
Очень долго, до тридцати лет. Вера Бездетная не могла выйти замуж, мечтая о семье, как, наверное, любая женщина её возраста, и ежедневно вспоминая о том, что жизнь ей дана вовсе не для одиночества. Но как-то всё не находился тот, кого рисовало её воображение. Красавицей она себя не считала: лицо у нее было круглое, в рамке золотистых волос, которые она всегда очень ровно и без оглядки на моду подрезала, сильно оголяя белую шею, обсыпанную, как и лицо, пятнами крупных веснушек. Небольшой, не лишенный изящества нос, пухлые губы, здоровый румянец делали её даже симпатичной, особенно были хороши большие, широко раскрытые, удивительного цвета первой весенней зелени глаза. Женихам, может быть, не нравилась её ширококостная, сбитая, словно у хорошего атлета, фигура; в ней чувствовалась вовсе не девичья сила, которой Вера обладала на самом деле, занятая на тяжелой, совсем не женской работе хлебопека. Девчонки, когда-то вместе с ней закончившие ремесленное училище, давно вышли замуж и растили детей. К замужеству в их среде относились просто. Вполне достаточным основанием для брака могли считаться и первая любовь, и совершеннолетие, и нечаянная беременность. Ни происхождением, ни социальным положением от своих подруг не отличаясь, Вера всё же оставалась среди них чужой. Со временем у неё даже начали появляться навязчивые мысли, что виной всему её фамилия – Бездетная, что не выйти ей никогда замуж, не иметь детей. Но, как в таких случаях иногда бывает, счастье оказалось совсем рядом и совершенно неожиданно явилось в лице сорокалетнего, одинокого, как и она, соседа, много лет проживающего рядом с ней, на общей лестничной площадке. До этого они только проходили мимо друг друга и здоровались, а однажды, на каком-то семейном торжестве, куда оба были приглашены соседями, их в шутку представили, как мужа и жену. Относясь в жизни ко всему очень серьезно и будучи немного суеверной, Вера увидела в этом особый знак. С присущей ей основательностью, с того времени она стала уделять соседу особое внимание – то отнесет тарелку пирожков, то при встрече подробно, как близкого знакомого, расспросит обо всех делах, о здоровье, а то и пригласит на обед, при этом простодушно, но по-женски интуитивно верно стараясь угодить вкусам немолодого холостяка. И так добросовестно его угощала, что соседу, Ивану Ивановичу, порой казалось, что он сыт еще с предыдущего обеда, необычайно обильного и вкусного, какими кормила его когда-то в детстве мать.
Постоянных мужчин у Веры Ивановны прежде не было. Об очень давней, первой в жизни связи в одном из домов отдыха, путевкой в который её когда-то премировали, она почти не помнила; чьё-то мимолетное желание при её тогдашней настороженности и боязни так и не пробудило в ней ответного чувства. Она и теперь не стремилась к близким отношениям, догадываясь, что какое-то целомудренное поведение Ивана Ивановича, – это скорее всего результат невероятной стеснительности и природной неуклюжести её соседа, воспитанного на здоровой морали и в уважении к женщине. Всё, что должно было случиться между мужчиной и женщиной, произошло у них как-то само собой и хорошо. Через три месяца к удивлению соседей, они на самом деле стали мужем и женой. Через год у них родился первенец Игорь, следом Сергей, а еще через пару лет их несчастье – Алексей.
Ещё в родильном доме, по какому-то жалеющему выражению лица медицинской сестры, принесшей на первое кормление Алексея, а потом и сама, по непропорционально сложенной головке ребенка, по его неестественно раскосым и широко посаженным глазам, поняла, что её младший сын – урод.
С тех пор, не имея возможности ни с кем поделиться сокровенным, она в мыслях всё чаще и чаще стала обращаться к Богу, а затем ходить в церковь, которую когда-то с праздным любопытством разглядывала, проезжая мимо на трамвае. А вскоре воскресные посещения храма стали для неё единственной возможностью забыться и уйти от повседневных забот и суеты; в такие минуты в её душе поселялась светлая и обманчивая вера, что всё устроится, образуется, она искренне молилась, прося у Бога здоровья своим близким и мира в семье. Однажды в беседе со священником Вера поделилась своей бедой, и тот, сделав какие-то подсчеты, сказал, что по-другому у неё и не могло быть, что она зачала Алексея в страстную пятницу, в канун Пасхи. После этого разговора чувство вины перед младшим сыном стало ещё сильнее, мучительнее, и она молилась, молилась, прося прощения за свое неведение, за свой грех и сделалась очень тихой и смиренной.
Выйдя из церкви с пучком пушистых веток вербы, Вера обернулась, поклонилась храму и, глубоко вдыхая свежий мартовский ветер, который долизывал остатки льда в тени домов и под деревьями, пошла к себе.
Сначала Алексей мало чем отличался от других детей. Вера ухаживала за ним, как всякая любящая мать за желанным ребенком. Так же, как и за первыми двумя. Потом комфортная и уравновешенная жизнь в семье стала медленно, но заметно нарушаться. Сын оказался маленьким чудищем, которое все время хотело есть. Утоляя голод, он так высасывал грудь и кусался, что минуты кормления превращались для Веры в сущую пытку. Он никогда не наедался, поэтому она заранее готовила молочную смесь, и ребенок, точно зверь мясо, рвал соску, опустошал бутылку, требовал ещё и ещё, и такой хваткой вцеплялся в волосы, что она даже мужа просила отдирать его, как клеща, от себя. Глядя в его совершенно бесцветные глаза с замутненной роговицей, она часто думала, – может быть, он делает всё это специально и ему доставляет удовольствие причинять ей боль, словно в отместку за то, что таким его родила. И он почему-то никогда не улыбался и не смеялся, как другие дети, а на лице его застыли сосредоточенность, равнодушие и холод.
Когда Алексею исполнилось полтора года, Вера Ивановна ощутила, что вместе с сыном в ней выросла отчужденность; больше не находила она в себе родственных чувств к нему, словно оборвалась незримая нить, которая, как пуповина в утробе, и после рождения продолжает связывать мать с малышом. Всё было так тяжело, что ночами, ложась ненадолго отдохнуть, она и во сне продолжала думать о нём.
Эгоизм получеловека, который поселился в доме, с годами набирал силу, и непонимание между нею, с одной стороны, мужем и детьми, с другой, росло и ширилось. Материнские чувства, помноженные на ощущение вины, заставляли её проявлять почти фантастическое терпение к изощренным пакостям, которые младший сын, словно нарочно, всем делал. От недосыпаний и переживаний её лучистые глаза поблекли, а румянец сменился серостью, как бывает у людей, подолгу не видящих солнца или много курящих. Все чаще и чаще она стала ловить себя на том, что не испытывает к Алексею любви; выработалась только привычка заботиться о нём, точно ходить на постылую и вынужденную работу; она опасалась, что с нею когда-то может случиться срыв, что материнские чувства окончательно сменятся злобой, ненавистью; она старалась гнать от себя подобные мысли, думала о лучшем, о возможном чуде, и ей ничего не оставалось, кроме как пускать свою жизнь на самотек будней и тихо грустить и радоваться, что прожила ещё день, ещё ночь. Вера без конца терзала себя страшной мыслью, что Алексей вовсе не её сын, что ей подменили ребенка, что он чужой и даже не человеческий. И часто ей снились кошмарные сны, после которых она просыпалась в холодном поту, но старалась никому о них не рассказывать, а только заставляла себя терпеть посланное ей судьбой испытание. Алексей, словно оправдывая её мрачные думы, продолжал вести себя как маленькое животное; он был похож на своенравную беспородную собачонку, совершенно не поддающуюся никакой выучке. Как только немного окрепли его кривые ноги, он с ловкостью обезьяны стал вскарабкиваться на подоконники. Первый раз она, испугавшись, что сорвется, сняла его. Он в ответ страшно злился, шипел и царапался, как кошка. Вера унесла его к себе, долго гладила по остриженной голове, а он продолжал отталкивать её и щипать, потом, устав, успокоился и уснул. Она, уложив его, еще долго сидела рядом, поглаживала по неровной, бугристой голове, по узенькой спинке, обтянутой мягкой байкой кофточки, плакала и думала: за что? почему? отчего с нею такое случилось, и чем она прогневила Бога?