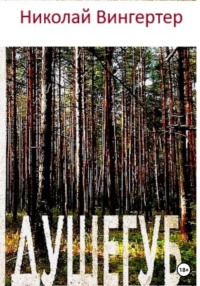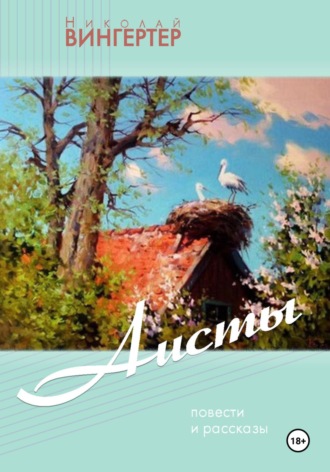
Полная версия
Аисты
В её окоченевшем сознании теплится единственное: "Куда идти?" Вдруг она вспоминает, что можно проехать в приемник-распределитель для бродяг и самой сдаться милиции. "Что с того, что на время потеряю свободу, – вяло думает она. – Зато сейчас там тепло и дадут горячего". Мысль о теплом помещении волнует её. Старуха через силу поднимается и садится в автобус. Выходит она на городской окраине. На неё сразу же голодным зверем набрасывается ледяной, колючий ветер. Кажется, что он проникает сквозь каждую ниточку одежды, отнимая последнее тепло у старого хилого тела. Идти ей почти два километра, и всё на ветер, степью. Она прикрывает ладонью лицо, но, не видя дороги, спотыкается и падает. Встаёт и, нагнувшись вперед, медленно бредёт, проваливаясь в снежные наносы. Временами силы совсем оставляют её. Она отворачивается от ветра, чтобы перевести дыхание. Видит перед собой мерцающие вдали огни города. Они манят к себе. Но там она никому не нужна. И бродяжка снова идет к теплу и горячей похлебке, до которых уже недалеко, которые должны быть там, за чернеющей в снегу карагачевой рощицей.
А вьюга всё злее и напористей. Снежные змейки поземки обвиваются вокруг ног старухи, лезут ей в лицо; резкий порыв ветра сбивает с головы шаль, и на морозе полощутся жиденькие седые волосенки. Старуха останавливается в изнеможении, старается натянуть шаль на голову, но ветер не дает, и она сначала приседает на корточки, а потом совсем садится в снег. Поправляет шаль, силится встать, но тело не слушается. Вновь начинает болеть бок. Она решает немного передохнуть, чтобы набраться сил.
Старуха отворачивается от ветра, пытается ладонью растереть нос и щеки, которых совсем не чувствует. Сидеть хорошо. От усталости слипаются веки. Через пять минут ей уже становится теплее. Теплом наливаются пальцы рук и ног, потом всё тело. Жарко. Она уже неосознанно развязывает концы шали, сбрасывает с плеч шубу. Сладкая зевота растягивает её губы. Очень хочется хотя бы немного поспать, и она медленно валится в снег… Сон приходит к ней сразу. Она снова видит зеленый луг за рекой, стайку лип и за ними, красные стены сельского костела, из окон которого слышны звуки торжественной Рождественской литургии… Вторя им, метель в ветках близких кустов карагача слагает свою грустную мелодию и наметает растущий на глазах снежный холмик на том месте, где спит старая попрошайка.
ОВЦЫ И ЛЮДИ
(рассказ)
1.
Есть в одном из глухих, забытых властью и богом, уголков российской Прибалтики – прошлом Восточной Пруссии – село Подъёлки. Там и случилось то, о чем до сих пор вспоминают и говорят местные, и не только.
В Подъёлках всего-то три двора, расположенных по одной прямой через примерно сотню метров; каждый в прошлом был самостоятельной усадьбой с домом довоенной постройки из красного кирпича, под красную черепичную крышу, и такими же капитальными хозяйственными строениями. Человеческие руки очень редко или совсем не прикладывались к ним последние десятилетия, чтобы поддерживать всё это в должном виде. Поэтому дома и сараи имеют жалкий вид: крыши провалились из-за того, что черепица не перебиралась и, как следствие, просели сопревшие стропила; только стены, сложенные из хорошего кирпича под шов, по-прежнему выглядят внушительно и добротно. За поселком в прошлом действительно был еловый бор, поэтому кто-то недолго утруждал себя подысканием нового названия к бывшему прусскому поселению, и удачно дополнил топонимику местности таким красивым названием: «Подъёлки». Но еловый бор давно и бесхозяйственно вырубили; теперь всё это пространство занимает подлесок из сорных деревьев и кустов – осины, мелкого березняка и боярышника, – польза от которых только в том, что их местные без конца рубят на дрова, а подлесок довольно быстро восстанавливается, да еще в нём много грибов, – любимого развлечения приезжающих сюда по выходным горожан.
В Подъёлках ранней весной поселился новый житель – Василий Мокшин, человек немногословный, шестидесяти лет, из отставных мичманов. Лицо у него было самое простое, даже немного грубое, и всегда красное, как обветренное, но запоминалось глазами, на первый взгляд тоже обыкновенными, с серым райком, однако каким-то неуловимым следом усталости, поэтому, добрыми и приветливыми. Сам он был невысок ростом, но телом ещё очень крепок, и с большими увесистыми кулаками; на земле стоял, как многие моряки, всегда чуть расставив ноги, и это вызывало у посторонних невольно уважение и даже опасение. Он был давно один, разведясь с женой, не дождавшейся его из долгого похода, много лет назад. С тех пор не рискнул больше жениться, полагая, что из этого ничего путного, если не получилось сразу, – не получится; в этом его убеждала и каждая женщина, из бывших у него потом. Ни одна из них не стала родной и близкой, а рано или поздно становились для него такими же чужими, как любой посторонний человек, например, в городском трамвае. Детей у него не было, и, как для большинства таких мужчин, одиночество было самым трудным испытанием в жизни. Он стал считать себя человеком несчастным, справедливо как-то заметив, что счастье не в деньгах или славе, а такой простой вещи – когда тебя кто-то ждет. Мокшин мучительно и долго переживал своё одиночество, иногда ему казалось, что он уже свыкся с ним, но наступали часы, дни и ночи, когда оно терзало его душу такими невозможными страданиями, как при тяжелом физическом недуге, что он не знал, чем заняться, куда податься. Днем он не мог дождаться, когда настанет вечер, он уснет, и так пройдет ночь; но наступала ночь и бессонница, и он теперь уже нетерпеливо ждал утра, чтобы быстрее встать, и что-то делать, чем-то заняться; и весь мир из-за этого казался ему бесконечной пыточной камерой, так что порой даже не хотелось жить.
Именно в такое мгновение, когда он вышел на пенсию, и осел бобылем в однокомнатной городской квартирке, к нему пришло необычное решение – продать её, уехать из города, который ещё больше усиливал чувство одиночества, и поселиться ближе к природе. Это означало для него самое главное: хотя бы какую-то деятельность, хлопоты на ближайшее будущее. Он продал квартиру и выкупил в одном из коммерческих банков закладную, под которую некий селянин по фамилии Урбан из Подъёлок, заложил под денежный кредит половину дома, да так и не расплатился; банк был вынужден продать эту половину дома.
Первый раз Мокшин увидел дом зимой, тогда его крыша была покрыта слоем пушистого инея, вокруг стояли такие же белые деревья, контрастировавшие с ярко голубым морозным небом и натоптанными местными жителями сизыми паутинками тропинок. Дом ему показался величественным, похожим на сказочный терем. Теперь, в конце марта, месяце распутицы и хлябей небесных, когда Мокшин приехал в Подъёлки на изрядно поношенном «Форде» с разной домашней утварью, дом в густой и сырой пелене тумана уже не был сказочным, напротив, казался мрачным сооружением, какие любят показывать в фильмах-ужасов. Ощущение мрачности картины дополняли своим гортанным протяжным карканьем несколько ворон, раскачивавшихся на мокрых ветвях ясеней.
Мокшина это не смутило. Первым делом он громко хлопнул в ладоши, вызвав звук, похожий на выстрел; вороны тут же снялись с веток и, перестав горланить, перелетели на крыши соседних домов. «Так-то вот, – подумал Мокшин, – вместо вас заведу петухов». Он стал носить из машины в дом вещи, и за целый час рядом не появилось ни души, лишь мельком видел за занавесками окна второй половины дома, где, знал, живут старик со старухой, их любопытные лица. Мокшин съездил в город ещё раз, и ещё, и на машине и небольшом прицепе перевез всё свое нехитрое имущество, которое заранее приготовил в узлах, мешках, или упаковках разобранной по частям мебели.
Началась его новая жизнь. С утра до вечера в течение недели он мыл две комнаты и кухню, переклеивал обои, сдирал старую краску и красил заново окна и двери, – создавая жилой дух в доме, уповая на то, что это временное улучшение, только начало, а летом примется и за подвал, и крышу, и двор капитально. За эту же неделю он узнал и остальных жителей села. Своих соседей по дому старика и старуху Новиковых. Живущих в доме слева от его дома многодетную семью тракториста по фамилии Сирота. Живущих в доме справа от его дома в первой половине немолодую вдову Валю Мишину, во второй половине Михаила Сторожева – пожилого и тоже одинокого, работавшего ветеринаром в центральном селе Красное, что лежало в двух километрах от Подъёлок.
В первых числах апреля низкие облака разогнал сухой южный ветер. Потеплело. Вышло долгожданное солнце, и под его яркими лучами неказистые Подъёлки снова похорошели, словно их кто-то подновил.
Мокшин, соскучившийся по общению с людьми, простой и добрейший человек, которого его долгое одиночество не сделало эгоистом, для которого большой радостью было всегда помочь кому-то и поделиться с кем-то – качество ныне редкое в людях – решил, что в деревне не должен жить нелюдимо, а первым делом познакомиться с соседями, поэтому в субботу пригласил их на обед. У него в доме не хватало места усадить всех рядом, и он сколотил из досок две лавки, стол, накрыл его прямо на улице.
Первыми пришли Павел и Вера Сироты, вежливо поздоровались с Мокшиным и осторожно присели на краю лавки. Павел был в спортивных брюках и футболке с короткими рукавами; Вера в простом ситцевом платье и кофточке, поверх головы у нее был повязан узлом на затылок, платок. По ним было видно, что они не так часто бывают в званых гостях, больше привычны к простому, без условностей этикета, быту; обстановка для них была в новизну, заметно чувствовали себя неуверенно. Это быстро проявилось, когда за стол сели старики Новиковы, и Вера, глянув на них, на заставленный закусками стол, непринужденно и наивно развела руками и сказала:
– Чудно как-то всё это! – Быстро спохватилась, что обронила какое-то неправильное слово, обернулась к Мокшину: – Я хотела сказать, что у нас в Подъёлках такого сроду не было так вот накрыть стол. Ей богу! – Почему-то при этом перекрестилась.
– Вот и напрасно, – сказал Мокшин. «Набожная что ли?» – подумал он. – Это в городе живут по клеткам и, прожив десяток лет в одном подъезде, не знают, кто над ними или под ними ещё в доме. В деревне, я так всегда считал, всё должно быть иначе.
Их прервали появившиеся, словно сговорившись, Мишина, одетая во всё черное, и Сторожев тоже в черном костюме и ярко красном галстуке.
– Все в сборе, – сказал Мокшин, поднявшись с места. За ним поднялись остальные. – Да вы сидите, – жестом указал он. – Я с удовольствием пригласил вас, чтобы немного отметить мое появление в Подъёлках, познакомиться. Меня, вы знаете, зовут Василий, для кого-то Василий Васильевич. Больше тридцати лет ходил в море, начинал на гражданском флоте рыбаком, потом служил на военном, как видите, – он жестом провел по трем юбилейным медалям и военно-морскому знаку с Андреевским флагом, прикрепленным к черному кителю, который одел по такому случаю. – Обычно у людей бывает наоборот, а у меня так вот получилось… Одним словом, всю жизнь отдал морю. Мне порой говорят: романтичная у вас была работа. Неправда. В жару море – это отупляющее голову скучное пространство, а корабль, как нагретый утюг. В непогоду море – сущая преисподняя. Романтика для бездельников и дураков. Человек не рыба, должен жить на земле, а в воде рыбы пусть и живут… – Он закашлялся от волнения. – Ну, да ладно, в горле сухо, наливаем, дорогие гости! Но всё одно, по давнишней традиции, сначала за тех, кто в море, им очень трудно.
– Верно, – сказал Новиков, – даже лекторам ставят стакан с водой. Глянь, какая! – он кивнул в сторону большой бутылки-графина с водкой, и было видно, что он уже давно смотрит и думает только о ней. – Такой никогда не пробовал.
– Чем рад, – сказал Мокшин. – Стал сам обносить гостей бутылкой, и никто, кроме вдовы, попросившей вина, не отказался.
– Она хотя бы и горькая, но не травит, как вино, – сказал тракторист, опуская на столешницу гранённый стаканчик. – Взять к примеру мой трактор,– продолжал он, – влей в него плохую или разбавленную водой солярку, разумеется, не пойдет, ему нужна энергия. Так и человеку… – многозначительно закончил он.
– Но в вине, я слушал однажды передачу, говорили, что есть витамины, – поддержал тему ветеринар.
– Именно, говорили! – передразнил его старик. – Ты сиди больше при своем телевизоре, – совсем оглупеешь! Вот Василич, сразу видно, бывалый человек, поставил пол-литра красненькой, зато сразу и полтора белой. Давай ка, Василич, теперь за тех, кто на суше…
Мокшин снова всех обнёс. Стопки он выставил граненые, на сто грамм, наливал их до верху. Выпили сразу, и между сидевшими за столом вскоре появилась почти осязаемое единение, которое словно невидимой нитью связало их, сделало откровенными, будто они на самом деле в этом временном сближении за спиртным пытаются доискаться до какой-то истины. Гости застучали вилками, кто-то ножами, предупредительно разложенными Мокшиным у приборов. Приготовленные им нехитрые закуски из нарезки сыра и колбас, мясных и овощных салатов, какими не часто баловались жители Подъёлок, стали тоже общей для всех темой. Соседи не скрывали восторгов и благодарности хозяину за угощение. Возник даже небольшой спор, когда к Сироте под руку засунула морду пришедшая вслед за нею из дому собака. Сидевшая рядом вдова больно ткнула собаку в бок и сказала:
– Ещё чего! Тебя только не хватало?
Собака взвизгнула, отбежала в сторону и, тяжело вздохнув, легла, опустив голову на накрест сложенные лапы, уставившись на подвыпивших людей трезвыми глазами.
Мокшин взял кружок колбасы, подозвал её к себе. Та подошла и ловко сняла с его большой ладони колбасу, дружелюбно завиляла хвостом.
– Лады Василич, – сказал старик Новиков. – Она хотя бы и сука, а видишь – ласковая! Тоже любит уважение.
– Как же ей не ластиться, если колбасой кормят, – вставила сердито вдова. – Небось сроду колбасы не видела…
– А ты не обобщай, – обиженно сказала Вера Сирота. – Больно твоя псина что-то видит…
– Колбасы на всех хватит, – дружелюбно улыбнулся Мокшин, – ещё есть, нарежу. А вот скажите, кроме собак и кошек, я другой живности не видел.
– Держали в своё время и скотинку, – сказала старуха Новикова. – Коровка была, и свиньи, даже лошадь. А теперь сил нет, да как-то и ни к чему. К примеру, мы с дедом молоко не пьем, как выпьешь, почему-то понос, есть мясо нет зубов… Старость, думаю. – Она посмотрела в сторону мужа, добавила улыбнувшись: – А у деда моего есть петух. Все хочу его на бульон пустить, не разрешает.
Старик, сгорбившийся за столом, услышав про петуха, сам, как птица, проснувшаяся на насесте, резко приподнялся и обвел всех горделивым взглядом.
– И не дам, он заслуженный!
– Это чем же? – спросил Мокшин.
– До тебя здесь жил Урбан Мишка, – сказала старуха. – Лихой человек. Вот и твою квартиру, почитай, пропил да промотал невесть как. Не сказать, что так уж сильно пьёт, не больше других, но весь с какой-то гнильцой в душе, главное, нечист на руки. Но, леший, никогда ведь не попадался. А тут случилась такая история два года назад, осенью. Петух, как любая птица, любил не просто пить из ведра, которое я всегда ставила курам у ледника, в конце сада, а вскакивать на край; случалось не раз, что ведро бывало пустым, опрокидывалось и его накрывало, а всё одно глупый, али любопытный, вскакивает на край ведра, чтобы заглянуть в него. Так, видимо, было и в то утро. В вечера ведро забыла наполнить, лёгкое, оно опрокинулось и накрыло птицу. А в это время в ледник, который мы не всегда закрываем, залез Урбан. Набрал в мешок банок с моими заготовками, и шёл, конечно же, осторожно, крадясь. В тот момент у него на пути и зашевелись ведро… Урбан с испугу так сиганул в сторону, что упал и сломал ногу. Его старик и застал стонущим среди разбросанных банок… Наш участковый благодарил потом нас, а Урбана даже судили, но не посадили, отделался штрафом… Теперь вроде как поумнел, говорят, дома у него нет больше, живет и работает при церкви в Красном.
– Его и наш батюшка, отец Серафим даже уважает, – сказала Вера Сирота. – Кто же не знает, что к Мише Урбану снисходила особая благодать… Вы об этом слышали? – обратилась к Мокшину. – Даже по телевизору показывали, что у его курицы были особые, небесного цвета яйца.
– Не слышал, – сказал Мокшин.
– Ну как же! Прошлой осенью курица, что жила в сторожке Урбана, вдруг снесла голубое яйцо. Батюшка сказал, что это особый знак. Яйцо всем показывали, приезжали с телевидения, снимали специальное кино про курочку и её голубые яйца. Красивая была курочка.
– Почему была?
– Отчего-то померла через месяц, но снесла она примерно с десяток таких яиц. Из города приезжали богатые люди, Урбан им продавал каждое по тысяче рублей. Сама видела, когда приходила мыть полы при церкви, я там тоже работаю, прибираюсь. Люди говорили потом, что яйца те целебные, от самых тяжелых хворей излечивали.
Гости снова выпили. Водка уже действовала на людей, они становились всё веселей и разговорчивее.
– Тетя Катя, – повернулся Сирота к старухе Новиковой, – вы тут всё про петуха так хорошо сказали, а ведь у нас с Верой тоже есть какая-никакая живность – Яков, забыли, что ль?
– Это кто? – спросил Мокшин.
– Козел. – ответил Сирота.
– Здорово! – сказал Мокшин.
– И коза у вас есть?
– А пошто ему жена! – засмеялся Сирота. – Козел он и есть козел, к тому же выложенный.
– Как это? – переспросил Мокшин.
– Сразу видно, городской ты человек. Это означает, что кастрированный. Мне этим козликом вместо денег за распашку огорода было дело расплатились. Решили с Верой, что подержим козлика на мясо, поэтому Сторожев и выложил ему, значит, все, козлятина после этого нежнее и вкуснее бывает. Сначала дети Яшкой забавлялись, вырос он, считай, вместе с младшенькой, стал у нас вроде члена семьи. Как после этого его забивать? Так и живет у нас уже четыре года. А хошь, приведу его прямо сейчас?
Не дождавшись ответа Мокшина, Сирота встал и неровной походкой пошел в сторону своего дома. Не прошло и пяти минут, как он привел на верёвке упиравшегося, напуганного большим количеством народа, козла. Сирота сел на край лавки, поставил рядом козла, продолжая держать веревку.
– Вот Василич, ещё тебе гость! – он погладил свободной рукой козла. – Добрейший, скажу тебе, козёл. Правда, Яша?
– Животина серо-белой масти с сильно загнутыми, но небольшими рогами, в ответ промолчала, облизнув сиреневым языком тонкие козлиные губы, и настороженно взирала выпученными глазами на пьяных людей.
Мокшин с любопытством разглядывал Яшку, который одним своим присутствием забавлял толпу, и спросил:
– Чем его можно угостить?
– Разумеется ста граммами, – сказал Сирота. Засмеялся. – Угостить можно всегда. Кто не любит угощения?
– Конфетой?
– Да что ты, Василий Васильевич, – сказала Новикова. – Он же не собака. Самое любимое у коз и овец – кусочек хлеба, ещё лучше, если хлебушек потерт солью.
Мокшин взял кусок ржаного хлеба, посыпал соли и протянул козлу. Тот сначала отвернулся, потом резко вырвал у него из рук хлеб и стал жевать, медленно двигая челюстями.
– Подумать только! – сказал Мокшин. – Какое приятное создание. Вот спасибо, – он обратился к Сироте, – вы сильно, скажу вам, подняли мне настроение. Если можно, я буду иногда кормить Яшку хлебом.
– Отчего нет. Он будет всегда рад.
– А сейчас, дорогие соседи, – сказал Мокшин, – от меня небольшие подарки. Они незамысловатые, но всегда сгодятся. – С этими словами он ушел в дом и скоро вышел, неся большую картонную коробку. Поставил её на стол и вытащил из неё две стопки: вафельные белые полотенца и тельняшки с трусами.
– По паре полотенец для женщин, а по тельняшке с трусами мужчинам. – Он заулыбался, видя удивленные лица соседей. – Трусы, сами понимаете, – усмехнулся, – не простые, а военно-морские, таких сейчас ни в одном магазине не купить… А если серьезно, добра у меня этого не мало. Мне вовек не сносить. Но всё получено по закону, этим добром со мной расплатились вместо денежного довольствия, когда увольнялся. Так что пользуйтесь на здоровье.
Люди, мало видящие радости в своей нелегкой сельской жизни, растроганные таким вниманием чужого человека, жали Мокшину по очереди руку, старик Новиков его даже обнял, а вдова прослезилась… Для них всех продолжался ставший неожиданно таким приятным обычный апрельский день.
Через месяц, на майских праздниках, Мокшин копал грядки за домом. Густо проросшая кореньями пырея, дикого клевера и одуванчика земля, давно не поднимавшаяся под лопату, давалась с трудом. Непривычный к такой работе, он даже немного устал и собирался пойти в дом отдохнуть и попить чаю, как его окликнули: «Хозяин!»
Мокшин обернулся. За штакетником забора стоял высокий, с болезненной худобой мужчина. Неестественным на фоне этой худобы выглядело его полное из-за отечности и пастозное, как у алкоголиков, лицо.
– Слушаю, – сказал Мокшин, и подошел к незнакомому человеку.
– Я Урбан Михаил, – представился незнакомец. – Раньше здесь жил.
Мокшин тоже назвался и пригласил Урбана войти. Тот зашагал прихрамывающей походкой. На вопросительный взгляд Мокшина, махнул рукой и сказал, что травма давнишняя, связана со спортом, лыжами, которыми когда-то занимался. «Наслышан, что за лыжи», – подумал Мокшин. Урбан, войдя в дом, усевшись на свободный стул, жадно осмотрелся, обнаруживая живой интерес к когда-то собственным стенам. В его глазах было видно удивление от увиденного, но он старался его скрыть и с подчеркнутым великодушием, стремясь одновременно угодить, сказал:
– Видно хозяина! Но, скажу тебе, благодаря и мне, моим большим трудам многие годы, – он поднял правую руку и многозначительно покачал указательным пальцем, – у тебя теперь всё это есть!
– Спасибо, – вежливо ответил Мокшин. – Я что-то, может быть, должен?
– Ну, нет! Это я так, между прочим, – но Урбан тут же задумался. – Хотя, если серьезно, конечно, я бы свою половину продал дороже тех денег, что получил в банке с кредита. Жулики! Вот кто они. Обобрали честного человека… Бог им судья… Но тебя это не касается… Ты, Василий, как хороший человек, о тебе отзываются у нас очень положительно, – если бы немного заплатил мне, я был бы не против. Сам понимаешь, жизнь стала очень трудная, лишней копейка не бывает. Опять же, между прочим, там за сараем гора дорожного булыжника. Хватит на основание всего забора, если захочешь новый поставить. А этот камень, между прочим, в стоимость дома не входил. Его я добывал вот этими трудовыми руками, – он протянул вперед руки, худые – кожа да кости – с тонкими, в подагрических узлах, пальцами, совсем не похожими на рабочие. – Урбан закашлялся и закончил: – Давай три тысячи и все лады!
В разговоре Урбан, при своей велеречивости, ни разу прямо не посмотрел на Мокшина; прятал взгляд, устремляя его куда-то в сторону, словно боялся, что тот через глаза увидит его чёрную душу человека мелочного, жадного и нечистого на руки.
Мокшин не стал возражать, допуская, что Урбан по-своему прав, когда считал себя потерпевшим; его было даже немного жаль, к тому же булыжник на самом деле не значился в договоре купли дома у банка. Он молча в присутствии Урбана подошел к старенькому – не раз подправленному лаком для придания свежести – комоду, и из верхнего ящика достал шесть пятисотенных купюр, отдал деньги. Урбан взял их осторожно, засунул в боковой, засаленный карман куртки.
– Сильно благодарен. Ты знаешь, работы нормальной нет, сейчас сижу сторожем при церкви в Красном. Денег платят мало, считай больше за кормежку тружусь, и та в основном постная. Но с попами сильно не поспоришь. «Такова воля божья!» – обычно только и слышу по десять раз на день по каждому поводу-случаю… Но ты, Василий Васильевич, молодец. Сегодня хороша «божья воля», сам Бог меня к тебе привёл… Не грех бы и отметить, – он забегал глазами по сторонам. – Жаль магазин далеко…
– Хочешь выпить? – сказал Мокшин. – Могу организовать по рюмке.
С этими словами он вышел на кухню, вернулся через пять минут с нераспечатанным шкаликом водки и тарелкой с нарезанным крупными ломтями розовым салом и черным хлебом.
– Михаил, а что, действительно у тебя была курица, несшая голубые яйца?
Урбан первый раз за всё время, но хитро, посмотрел на собеседника, и сказал:
– И ты поверил? Ты же бывалый моряк, или тоже такой же простак, как Сирота. Ей то простительно – тёмная, как погреб. Ох, будь он не ладен. – Урбан помял больную ногу. – Но ты, должен знать, что чудеса бывают только в сказках, да поповских баснях.
– Но как же, Вера Сирота рассказывала, и все видели.
– Ладно, наливай, так уж и быть, тебе скажу правду. Когда нет денег, что не удумаешь. Вот и придумал. Купил хорошую несушку. Стал ей в комбикорм примешивать медный купорос с мелом, любит, известное дело, птица известняк Вначале яйца были как бы слегка с голубизной, а потом сильнее. Как появилось хорошо поголубевшее яйцо, я его и понёс попу Серафиму. А тому, видимо, только того и надо было. Историю о чуде разнесли корреспонденты с телевидения, которые, сам знаешь, до сенсаций также падки, как мухи до говна… Но мне то, что? И мне этого только и надо было, как попу, только у него одно на уме, а у меня другое, чтобы те же яйца покупали дураки. Их хоть пруд пруди: народ не умнеет ничуть, всё продолжает верить в чудеса… Так продолжалось пока не сдохла моя курочка… И как тут не сдохнуть, – столько отравы, корма с медным купоросом, склевать, медные пятаки нести начнешь не только голубые яйца… А что делать? Не обманешь – не проживёшь. Это ведь лозунг не только торгашей, но теперь всей нашей жизни.