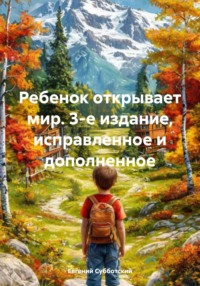Полная версия
Генезис личности. Теория и эксперимент. 2-е издание, исправленное и дополненное
Можно также предположить, что у более сложных «психогенных» объектов элементы непредсказуемости в поведении будут возрастать. Вернее даже было бы сказать, что степень сложности объекта, обладающего активностью, определяется нами по степени непредсказуемости его поведения. Поскольку же всякое научное исследование имеет целью снизить степень непредсказуемости поведения своего объекта, сделать его до конца «прозрачным», то с развитием науки эмпирическая грань между вещным уровнем саморазличения и уровнем активности может передвигаться; не исключено, что объекты, входившие ранее в группу активных, при более полном их изучении станут «прозрачными» и отойдут в категорию «вещей».
Вместе с тем очевидно, что полная ликвидация «непредсказуемости» принципиально недостижима; она означала бы обладание абсолютным знанием и одновременно прекращение рождения в мире новых, творческих «вариаций». Достижение полной предсказуемости противоречит и самому факту творческого исследования: ведь создавать нечто принципиально новое и знать о том, как ты создаешь это новое, невозможно; в противном случае создаваемое было бы простой реализацией заранее обдуманного плана и, таким образом, не было бы новым.
Отсюда ясно, что наличие «темных» или активных объектов является отнюдь не случайным и временным, а коренным условием всякого научного исследования. При этом они выполняют двоякую функцию: во-первых, представляют собой «зону», за счет постепенного «поглощения» которой идет расширение создаваемого наукой «мира вещей», во-вторых, являются местом «отсылки» при объяснении появления новых, творческих «комбинаций». Это, в частности, показывает, что сколь бы ни были велики достижения науки в процессе познания, предсказания и управления поведением человека, они никогда не увенчаются полным успехом, и предел ее успеху положен отнюдь не «относительностью» нашего знания, а носит принципиальный характер. Более того, поскольку научное исследование имеет конечной целью формирование новых эмпирических объектов (скажем, формирование личности ребенка), то чрезмерное увеличение «зоны овеществленности» человека чревато опасностью утери человеком части своих творческих потенций, превращения человека в научно управляемую «вещь». В итоге наряду с научной «редукцией непредсказуемости» перед исследователем может быть поставлена и противоположная задача: создание условий для расширения непредсказуемости и творческой спонтанности поведения человека.
***
Наряду с затронутым выше филогенетическим аспектом эмпирического различения активных и неактивных систем имеется и аспект онтогенетический. Как известно, в европейских культурах ребенок лишь с момента рождения считается «юридическим лицом»; уничтожение зародыша, особенно на ранних стадиях беременности, в большинстве европейских стран не считается преступлением. Более того, даже в момент рождения и в период новорожденности наукой и общественным мнением, зафиксированным в практике обращения с детьми, ребенок рассматривается преимущественно как вещь, как объект, лишенный каких-либо атрибутов спонтанности, субъективности и переживаний; последние «приписываются» ребенку лишь с определенного возраста, варьирующего в разных культурах.
Онтогенетический аспект дает нам еще более яркий пример относительности границы между двумя выделенными уровнями саморазличения. В самом деле, в арсенале современной науки нет никаких способов строго различить движение зародыша или новорожденного на акты поведения и акты пассивного «выполнения»; так, например, у нас нет никаких объективных оснований считать первый крик новорожденного реакцией (т.е. актом выполнения), а не активным «самопроявлением» человеческого субъекта. Об этом же относительности границы ценностной «классификации» поведения детей разных возрастов по критерию «активность–пассивность» говорят и многочисленные факты межкультурных исследований; они показывают, что границы эта широко варьирует в разных культурах и в разные исторические эпохи (см. Субботский, 1979-е, 1981-b).
Если в филогенетическом аспекте проблема выделения эмпирических критериев наличия саморазличения носит, в основном, теоретико-познавательный характер, то в аспекте онтогенетическом все более очевидным становится ее практический резонанс. Нетрудно видеть, например, что то, к какому уровню саморазличения мы отнесем новорожденного, будет диктовать нам различные методы обращения с ним, которые, в свою очередь, могут внести необратимые изменения в сам объект. Так, характерное для европейских культур «вещное» отношение к новорожденному эгоцентрически ориентирует врача, принимающего роды, позволяя ему создавать для себя комфортные психологические условия (яркий свет, громкие звуки, «бесцеремонное» обращение с новорожденным и т.п.), которые в то же время могут оказать и, видимо, оказывают травмирующее воздействие на психику новорожденного. Однако последнее становится очевидным лишь тогда, когда мы изменим наши «ценностные ориентации» и рассмотрим новорожденного как субъект, способный к спонтанности и саморазличению. Согласно французскому исследователю F. Leboger, практикующему новый способ приема родов, такое изменение ценностной ориентации и соответствующее ему обращение с ребенком действительно улучшает психическое состояние новорожденного (Leboger, 1974).
2.3.2. Критерий произвольности
Второй критерий выделения уровней саморазличения, применяемый по отношению к активным объектам, мы обозначим как критерий предвидения или произвольности. Соответственно на первом уровне по этому критерию мы получаем объекты, активность которых направлена на реализацию непосредственной, ближайшей цели; напротив, объекты второго уровня обладают способностью иерархизации целей и мотивов, направляя активность на реализацию опосредствованных задач. Обычно активность на этих уровнях обозначается как непроизвольное и произвольное поведение; однако поскольку в феноменальном плане активность первого уровня связана с интенсивными эмоционально-аффективными состояниями, а второго – с относительно слабыми аффектами, в историю философии различение этих уровней вошло как противопоставление аффекта и интеллекта.
Один из первых вариантов различения произвольного и непроизвольного поведения мы встречаем у Платона; критерием произвольности действия тут выступает намеренность и подавление аффекта: «тот, – пишет Платон, – кто подавляет ярость, не действует просто внезапно, но намеренно откладывает свое мщение на будущее время; действия такого человека подобны добровольным» (Платон, 1968, с. 355). Аристотель также разделяет сферу познания, ощущения и мышления, с одной стороны, и сферу эмоций, желаний и стремлений – с другой; волю он отождествляет с умом. Сферы эти находятся в состоянии борьбы: то ум человека затемняется страстью и стремление берет верх над волей, то воля берет верх над стремлением (Аристотель, 1976).
В дальнейшем противопоставление разума и страстей прочно входит в европейскую философию: мы встречаем его у Декарта и Мальбранша, Спинозы и Лейбница. Для Канта преодоление аффектов, непосредственных природных побуждений является одним из критериев морального, истинно свободного действия (Кант, 1965-b). Фихте (см. Гайденко, 1979) выделяет ряд этапов освобождения человека от страстей: вначале человек полностью подчинен чувственным влечениям, не осознавая этого (на этом этапе он немногим отличается от животного), затем он осознает свои чувственные влечения, хотя все еще им подчиняется, и, наконец, на третьем этапе становится господином своих страстей. Гегель дифференцирует низшую способность желания (чувственные побуждения, страсти) и высшую способность желания – волю (Гегель, 1971-а). Воля есть результат рефлексии человека на свои побуждения и способность выбирать между ними (произвол); в ходе исторического развития человек постепенно поднимается от стадии полной подчиненности своим природным аффектам до стадии произвольности (Гегель, 1976).
Таким образом, на первой стадии (стадия непроизвольной активности) мы имеем объекты, активность которых носит ярко выраженную аффективную окраску и характеризуется своеобразной «одномерностью», непосредственностью; ближайшее побуждение тут подавляет все остальные. Напротив, объект, находящийся на стадии произвольности, способен к выбору и соподчинению своих влечений; поскольку же саморазличение, по определению, само есть выбор, то выбор субъектом одного из вариантов своего различения (одного из своих мотивов) представляет собой выбор «второго порядка» и составляет высшее «измерение» активности.
Важно отметить, что произвольные психические процессы противопоставляются непроизвольным, аффективным действием не по критерию наличия или отсутствия мотива (потребности), а именно по критерию предвидения, соподчинения или вторичности выбора. Произвольное действие, следовательно, не есть «безмотивное», незаинтересованное действие, как это можно было бы думать исходя из поверхностного противоположения разума и страстей; «холодный» разум столь же мотивирован, сколь и «горячая» страсть; однако он представляет собой иной уровень мотивации (саморазличения), относительно свободный от феноменально представленного эмоционального фона. Об относительности этой границы свидетельствует, в частности, хорошо известный в психологии феномен «эмоционального тона» ощущений.
Естественно предположить далее, что первый, непроизвольно-аффективный уровень саморазличения является не только логически, но и генетически первичным и связан с так называемыми витальными жизненными потребностями, неудовлетворение которых ставит под угрозу само существование объекта как активной системы. Напротив, на уровне произвольности, как правило, удовлетворяются «производные» потребности саморазличающего объекта, лишь косвенно связанные с его бытием и не требующие монополии на всю его активность, которая вследствие этого теряет интенсивную чувственную окраску. Таким образом, в определенной степени аффективно-эмоциональная насыщенность может служить критерием того, что действие системы совершается на непроизвольном уровне и глубоко затрагивает сами основы ее бытия. «Чувство, – отмечает Фейербах, – doctor subtilisimus (наиболее чуткий руководитель). Лишь благодаря тому, что этот руководитель исключительно тонкий, мы часто его не понимаем» (Фейербах, 1974-b, с. 309).
2.3.3. Критерий осознанности
Третьим общепринятым критерием, обычно применяемым для классификации действий активного непроизвольного уровня саморазличения, является критерий осознанности или субъективной представленности. В феноменологическом аспекте осознанность есть то, что нередко называют «полем ясного сознания»; в познавательном аспекте критерием осознанности выступает способность человека вербально воспроизвести совершенный акт.
Таким образом на первом по этому критерию уровне мы получаем действия, в которых проявляется активность субъекта, но о которых он не в состоянии сообщить другим, на втором – действия человека, которые он в состоянии воспроизвести вербально. Отсюда следует, что все произвольные действия (по своему понятию) осознаны, поскольку произвольность, как и осознанность, включает в себя элемент рефлексии; в то же время понятие непроизвольного действия не предполагает, хотя и не исключает, осознанности. Точно так же понятие осознанности не предполагает произвольности (рефлективного усилия), представляя собой вид пассивной рефлексии, однако и не исключает ее.
Хотя критерий осознанности приобретает особую популярность в ХХ столетии, по своему происхождению он значительно старше. По существу, идею бессознательной активности разрабатывает уже Лейбниц; он называет ее «смутными представлениями монады». «Не следует, – пишет Лейбниц, – ограничивать спонтанность лишь сферой отчетливых мыслей, деятельности разума, сознательных и добровольных действий, но надлежит распространять на смутные и невольные представления, бессознательные и нами не подмеченные… Все возникает из наших собственных недр… Картезианцы допускали большую ошибку, не учитывая представлений, которые не сопровождаются у нас сознанием» (цит. по Фейербах, 1974-b, с. 169–170).
Согласно Лейбницу, бессознательные действия не отделены от сознательных непроходимой гранью, напротив, всякий сознательный мотив – это отрефлексированное, осознанное бессознательное, всякое сознательное ощущение – это ощущение, ранее бывшее неосознанным. Таким образом, отношение бессознательного и сознательного – это отношение уровней саморазличения монады, причем всякой деятельности на сознательном уровне обязательно предшествует та же деятельность на досознательном уровне, которая переходит в сознание, достигнув определенного порога.
Эта идея Лейбница представляется нам фундаментально важной; она показывает, что у самых истоков различения понятий сознательного и бессознательного отношения между ними мыслились не как отношения детерминации (т.е. отношения причины и следствия), а как отношения различенных противоположностей, отношения уровней. Таким образом, ни сознательная активность по своему понятию не может «детерминировать» бессознательную, ни наоборот; та и другая являются той же самой активностью того же субъекта, но существуют на разных уровнях, один из которых сопровождается субъективной представленностью и обладает свойством воспроизводимости, а другой – нет.
Идею бессознательного развивает и Фихте (1913). Поскольку для Фихте весь мир – продукт саморазличения (творчества) субъекта и в то же время нечто чуждое субъекту, нечто такое, что он осознает не как им самим созданное, то творчество субъекта должно носить бессознательный характер. Фихте также различает сознательное и бессознательное по принципу уровней, причем критерием сознательного уровня является способность субъекта вспомнить и воспроизвести свою творческую активность. Новым по сравнению с точкой зрения Лейбница тут является противопоставление сознательной и бессознательной деятельности по продукту: поскольку бессознательная деятельность дорефлексивна, ее продукт не носит печати «авторства», не ощущается субъектом как нечто им созданное.
Несмотря на эти идеи, в целом для рационалистической традиции характерно придание бессознательной активности статуса «несовершенного бытия», связанное с коренным постулатом cogito – положением о тождестве бытия и мышления. Согласно этому постулату, истинное бытие тождественно сознанию; все, что выходит за пределы сознания, обладает неподлинным, случайным, неистинным бытием и недостойно признания как нечто самостоятельное и суверенное. «Где прекращается наше сознание, – пишет Фейербах, – прекращается также и наше бытие… Именно сознание есть бытие человека как таковое. Бытие камня, растения состоит в том, что они являются объектом для кого-то другого, но бытие человека – в том, что он сам себе объект. Поэтому там, где человек перестает быть объектом для самого себя, как это бывает в глубоком бессознательном состоянии, когда он является объектом для кого-то другого… он теряет также и свое бытие» (Фейербах, 1974-b, с. 62–63). Такая точка зрения, конечно, не означает, что для мыслителей-рационалистов не существует понятия бессознательной активности; однако сознательная деятельность занимает в их категориальном аппарате главное, привилегированное положение.
Иные аспекты идеи бессознательного разрабатывались в рамках других направлений западноевропейской мысли. Так, в обосновании концепции бессознательной деятельности на уровне индивидуальной психики хорошо известны фундаментальные достижения психоанализа, в дальнейшем распространенные на уровень «коллективного бессознательного» (Фрейд, 1910, 1922, 1924).
Большое место критерий осознанности занимает в экзистенциалистских концепциях, в частности, у Сартра. Для Сартра чистая субъективность и есть то, что он называет дорефлексивным сознанием (отождествляя его с бессознательным Фрейда); именно на этом уровне бытия человек совершает фундаментальный выбор, в конечном итоге определяющий его судьбу (Sartre, 1971). Следы этого выбора (подобно следам комплекса в психоанализе) можно обнаружить лишь косвенным путем, на основе анализа поведения, сновидений, описок, оговорок и т.п., в которых фундаментальный проект субъекта находит символическое выражение. Такая работа составляет суть сартровского «экзистенциального психоанализа», в ходе которого чистая субъективность становится достоянием знания. Однако, признает Сартр, эта работа в принципе ограничена; никакой психоанализ не может дать достоверного знания о субъективности, которую можно постичь до конца лишь в «живом обладании» (переживании). Такое же понимание субъективности характерно и для предшественников экзистенциализма: Шопенгауэра, Ницше, Киркегора, Бергсона, сместивших острие анализа с рефлексивного на дорефлексивный уровень сознания.
***
Таким образом, дорефлексивная деятельность по своему понятию есть «очаг» невоспроизводимой вербально, не представленной феноменально и не контролируемой субъектом активности, та «зона непредсказуемости», которая ограничивает возможности освоения «феномена человека» научными средствами, но является источником «творческих мутаций». Важно отметить, что такая непредсказуемость носит не случайный, а необходимый характер; в самом деле, если бы вся человеческая деятельность могла быть воспроизведена вербально и, следовательно, предсказана, «…то это означало бы в общечеловеческом плане достижение такого завершенного “тождества мышления и бытия”, при котором деятельность уже не прорывала бы границы знаемого, не содержала бы в своей стихии творческих потенций и свелась бы к тавтологическому повторению однажды закрепленного в рассудке» (Иванов, 1977, с. 172).
2.3.4. Критерий всеобщности
Четвертый критерий. Ведущий к расчленению сознательного произвольного уровня саморазличения, мы обозначим как критерий всеобщности.
Как уже говорилось, произвольное действие представляет собой выбор субъекта, постоянно осуществляемый им на материале своих конкретных, особенных мотивов. Произвольность, следовательно, можно рассматривать как частичную рефлексию, которая составляет сущность специфически человеческого саморазличения или разумного поведения. Самое страшное для человека, – писал Фейербах, – это потерять разум, контроль над собой; в этом смысле большинство людей действительно являются прирожденными «фихтеанцами и картезианцами».
Однако очевидно, что произвольность, рефлексивность обыденной жизни (произвольное поведение как таковое, частичная рефлексия) не совпадает с состоянием самосознания, с той рефлексивностью, которая достигается в cogito. Их различие не только в том, что переход от обычной произвольности на уровень cogito требует максимальной сосредоточенности и напряжения рефлексии, но и в том, что в позиции cogito мы не останавливаемся на каком-то особенном чувственном мотиве, а продолжаем сомнение до конца, приходя, таким образом, к «чистому мышлению» как к конечному пункту. Всеобщее, которое мы тут получаем и которое состоит в мышлении, и составляет высший уровень саморазличения, возможный в рамках абстракции cogito – уровень самосознания.
Вместе с тем ясно, что такое всеобщее есть лишь абстрактное всеобщее. Подвергая сомнению все свои единичные побуждения и мотивы, я приходу к полному отрицанию чувственности, к тому, что А. Камю точно выразил в своем тезисе «Единственная стоящая проблема философии – это проблема самоубийства» (Camus, 1942, с. 3). Однако из cogito отнюдь не следует несомненность конкретного всеобщего – несомненность долга и морального закона. Для того, чтобы «должен» стало для меня столь же достоверно, как и «мыслю», необходимо оставить позицию cogito и перейти к новым теоретическим основаниям. Главное из них – это признание равноправного и равноценного со мною как мыслящим бытия других людей. Именно конкретно-всеобщее – добродетель – всегда служило критерием выделения высшего класса произвольных мотивов, высшего уровня саморазличения. Однако именно переход от абстрактной всеобщности cogito к конкретно-всеобщему и составляет одну из фундаментальных трудностей рационалистического подхода к миру.
***
Обобщая изложенное в этом параграфе, можно выделить пять основных уровней саморазличения.

Следует еще раз отметить тот фундаментальный, с нашей точки зрения, факт, что переход к наивысшему из выделенных уровней, имеющему непосредственное отношение к понятию личности, не может быть осмыслен в рамках чистого cogito и требует обращения к иным теоретическим основаниям.
2.4. Переход от cogito к интерсубъективности. Понятие долга и морали2.4.1. Всеобщее как цель познания. Принципиальная ограниченность cogito. Необходимость перехода с интерсубъективности
Мышление в рамках cogito приводит нас еще к одному фундаментальному различению: противопоставлению всеобщего и единичного. При этом, как уже говорилось, полюс физического, телесного мира рассматривается как совокупность случайных, единичных вещей; напротив, полюс мышления, духа концентрирует в себе всеобщее и необходимое. Мыслить, сомневаться и означает «снимать» видимую оболочку вещей, выделяя в них всеобщее и необходимое. Но таким всеобщим, согласно Декарту, может быть лишь мышление. Достижение всеобщего, таким образом, выступает тут как цель познания, находящая свое воплощение в cogito, в чистой мысли.
Однако здесь мы встречаемся с принципиальной трудностью, которая ставит предел познавательным возможностям декартовой процедуры познания. Дело в том, что в итоге этой процедуры мы получаем лишь абстрактное всеобщее. Вещи общи между собой лишь в том, что человек их мыслит; но эта всеобщность есть лишь нечто бескачественное, лишь интуитивно достоверное и основанное на единстве и непрерывности моей мысли.
Иными словами, абстракция cogito задает нам понятие замкнутого на себя эго-индивида», бесконечно различающего себя и порождающего как свои потребности, так и активность, направленную на их удовлетворение. Такую активность мы назовем прагматической. По контрасту с ней (и в оппозиции к ней) возникает понятие бескорыстной или альтруистической активности, ведущей только к неудовлетворению «эго-потребностей». В отличие от прагматических действий, всегда имеющих единичную, эмпирически-конкретную цель, бескорыстное действие, по определению, обладает атрибутом всеобщности.
Такое всеобщее, однако, в рамках чистого cogito осмыслено быть не может. Даже конечный итог декартовой процедуры, ее познавательный горизонт – чистая мысль – не обладает статусом всеобщности и замыкается на одну из «эго-потребностей» субъекта – потребность в ясном и отчетливом знании. По существу, тупик cogito не есть специфическая ситуация, в которую попадают картезианцы; он преграждает путь всякому, кто ищет высших целей в рамках концепции «эго-индивида». Именно он, в частности, составляет основной изъян теории стоического аскетизма: даже полный отказ от удовлетворения базовых нужд не выводит стоика за пределы его «Я» (см. Гегель, 1913).
Это показывает, что бескорыстный акт может быть осмыслен лишь как акт самопожертвования по отношению к другому индивиду, следовательно, как акт нравственный. Только в том случае, если другой человек является для субъекта абсолютной ценностью, «целью самой по себе», действие субъекта приобретает характер всеобщности. А это, в свою очередь, требует от субъекта выхода за пределы cogito, отказа от принципиальной «эгоцентрации» и признания равноценности бытия других людей.
В самом деле, нравственный поступок опирается на всеобщее требование, которое признают (в принципе, конечно) все равноправные и свободные индивиды. Их принципиальное равноправие имплицировано в само понятие нравственного поступка; в самом деле, последний, по определению, бескорыстен и включает элемент жертвенности, а это значит, что субъект обладает ценностью, по меньшей мере равной для него ценности сохранения своего собственного существования. Очевидно, что такой ценностью не может быть тело или вещь; ею может быть лишь другой субъект.
Но ведь как раз понятие о равноправном и суверенном субъекте, о равноценном мне «другом Я» и невозможно вывести из cogito с аподиктической достоверностью. С картезианской точки зрения «Мы только предполагаем, что души других людей таковы же, как наши» (Фейербах, 1974-а, с. 309); на самом же деле другой человек тут, как и все остальное, не более чем объект сомнения. Понятие «Я» в cogito противопоставляется не другому «Я», а телу или природе; раздвоенность «Я» и природы противополагается исходному первичному единству и т.п. Иными словами, в рамках cogito как чистого саморазличения мы можем получить лишь нечто отличное от «Я», но никак не тождественное ему, равноценное с ним.
Невозможность «логически» перейти от трансцендентального «Я» к содержательно-всеобщему, от субъективности к интерсубъективности станет еще более очевидной, если мы рассмотрим попытки некоторых мыслителей преодолеть эту кардинальную трудность критической философии, не нарушая строгости и достоверности cogito. Так, Гуссерль в своих «Картезианских размышлениях» предлагает следующую линию рассуждений. Совершая феноменологическую редукцию – «эпохэ» (по существу – строгую и очищенную процедуру cogito), я прихожу к «перводанности» моего трансцендентального «Я» и мира моей чистой субъективности – «первичного мира». В этом первичном мире среди других объектов я вижу и объекты, внешне похожие на меня – других людей. На этом этапе я воспринимаю их лишь как тела, напоминающие мое собственное; ни о какой психике, одухотворенности и т.п. в первичном мире речи пока не идет, все это подвергнуто сомнению и исключено как нечто «чужое» и «не мое».