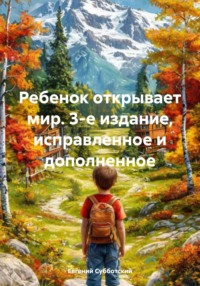Полная версия
Генезис личности. Теория и эксперимент. 2-е издание, исправленное и дополненное
Понятно, что в этом очищенном и стерилизованном мире феноменов ни о какой равноценности между мной – мыслящим одухотворенным телом – и телами других людей, в одухотворенности которых я не уверен, не может быть и речи. Единственный путь к признанию их равенства со мной есть путь «добавления смысла» к феноменам моего первичного мира. Такое «добавление смысла» осуществляется Гуссерлем путем особой процедуры – «аналогизирующей аппрезентации», попросту говоря – путем дорефлексивного умозаключения по аналогии. Наблюдая сходство человеческих тел, я как бы переношу свое свойство одухотворенности, данное мне непосредственно, в тело другого человека, «аппрезентирую» его и удостоверяюсь в правильности своего заключения, наблюдая за поведением другого. Посредством такой аппрезентации я все более и более отождествляю тело другого человека с собой, переношу на него свои внутренние свойства (переживания, страдания, желания и т.п.) и, таким образом, как бы уравниваю его с собой. Теперь уже это не просто мой феномен, «мое», а нечто чужое, не принадлежащее только мне и равноправное со мной. Но тем самым мой «первичный мир» превращается в «объективный мир» – в котором предмет существует не только для меня, но и для других, объективно. Таким образом мы получаем «вселенную монад», в которой только и возможны история, этика, культура (Husserl, 1960).
Нетрудно видеть, что своей операцией «дополнения смысла» Гуссерль, по существу, подтачивает строгость и самодостоверность «ego-cogito». Реально аппрезентация представляет собой не что иное, как доверие человека к данной ему феноменальной реальности, как признание истинности и равноправия бытия других людей и объективного мира. А это никоим образом не следует из cogito логически.
Способ перехода от cogito к интерсубъективности, предложенный Гуссерлем, можно было бы принять, например, как модель для понимания этического развития ребенка. При этом как наблюдения, так и исследования показывают, что в когнитивном плане дело обстоит как раз наоборот: вначале ребенок воспринимает как непосредственную достоверность бытие других людей, после чего осознает и себя как человеческое существо, как «Я».
Итак, еслип признать, что в этическом плане человек действительно рождается фихтеанцем или картезианцем и «выходит» к людям из состояния глубокого «эпохэ», то такой переход к интерсубъективности нельзя мыслить без нарушения строгости процедуры cogito. Если, однако, вспомнить, что cogito не более чем абстракция, возникающая на очень высоком уровне развития философского мышления и что даже в cogito мы не можем освободиться от «понятийного» способа постижения субъективности, то станет ясно: интерсубъективность, общественная сущность человека является необходимой предпосылкой самого cogito . В состоянии самого глубокого «философского одиночества» мы не можем выйти из «кожи» объективного мышления, ибо это означало бы прекращение всякого мышления вообще.
Таким образом, непосредственность и самодостоверность отношений, которые мы получаем в cogito, на самом деле «…не исключают, а предполагают предшествующую длительную и противоречивую историю выработки соответствующего этим отношениям описания, фиксирования их впервые в категориях, наименованиях и т.д.» (Мамардашвили, 1969, с. 38). Ограниченность cogito вынуждены так или иначе признать все, кто претендует на осмысление человека как морального существа. Так, Фихте указывает на примат практического разума над теоретическим, на необходимость веры в равноправное существование других (1913). Сартр, развивая свое учение о ситуации, также исходит из cogito; и хотя он полагает, что «…человек открывает в cogito не только себя, но также и других» (Sartre, 1971, с. 40), это «открытие», по существу, сводится просто к признанию равноправия других. Я просто принимаю свое бытие-для-других и бытие других для меня и более в этом не сомневаюсь. Так в мою «ситуацию» входят всеобщность, объективность, культура и мораль.
Но это желание большинства мыслителей основать свою концепцию человека на прочном фундаменте конкретной всеобщности, на понятиях объективности и нравственного долга неизбежно толкает их к принципиальному разрыву с cogito, к тому, на что очень точно указал еще Фейербах в своих комментариях к Лейбницу: «Если бы не было никаких других монад помимо меня, то монадология и вообще идеализм были бы правы: чувственное существо было бы только видимостью. Но другие монады, другой человек проявляется… в виде существа, мне подобного… в качестве моего alter ego… Этой достоверностью, истинностью alter ego, истинностью существования человека вне меня, истинностью любви, жизни, практики, а не теоретическим значением чувственного знания, не происхождением идей и чувств, не Локком и Кондильяком обосновывается для меня истинность чувств» (Фейербах, 1974-b, с. 174). Но бытие в таком мире, мира равноправных и равноценных со мною людей, может быть лишь нравственным бытием.
Итак, покидая рамки cogito, мы, наконец, обретаем новое понимание всеобщего в лице объективности и нравственного долга. Именно понятие объективности, немыслимое в рамках cogito, делит мою чувственную реальность на то, что принадлежит только мне (переживание, сновидение, фантазия и т.п.), и то, что принадлежит всем людям. Понятие объективности не следует отождествлять с «независимостью от сознания», как это иногда делается (см. Иванов, 1977). Понятие независимости от субъективного усилия существует уже в рамках cogito; собственно говоря, такова вся чувственность, «материя». Ее отличие от мышления и состоит в независимости от субъективного произвола. Только оно делает возможным введение таких фундаментальных категорий, как значение, мораль, культура и личность. Одновременно оно задает ту грань, которая отделяет рационалистическую связку понятий «активность–психика–деятельность» от понятия личности; последнее, таким образом, может быть осмыслено лишь на основе признания общественного бытия людей.
2.4.2. Долг как всеобщее на уровне интерсубъективности
Таким образом, долг раскрывается перед нами как всеобщее, составляющее сущность человека на уровне интерсубъективности. Не случайно этика со времен классической древности служила главным орудием философского познания человека.
Если судить по греческой мифологии и творениям греческих классиков, то нетрудно видеть, что прообразы, архетипы» классических проявлений нравственности сложились уже в древнейшие времена: верность, мужество, самопожертвование противопоставляются тут коварству, трусости, эгоизму. Эти же «архетипы» в императивной форме запретов и табу выступают и в Ветхом Завете.
Аристотель делит добродетели на динаэтические (интеллектуальные) и этические (волевые). К первым он относит мудрость, благоразумие, расчетливость, приобретаемые путем обучения; вторые (щедрость, умеренность) образуются путем воспитания. Еще более глубокую и обобщенную формулировку понятия добродетели мы встречает в ранних диалогах Платона. Герой «Апологии Сократа» дает нам наглядный образец твердости духа и бескорыстия, а в «Критоне» Платон устами Сократа прямо формулирует альтруистический принцип: «Не надо ни отвечать на несправедливость несправедливостью, ни делать кому бы то ни было зла, даже если пришлось от кого-то пострадать…; никогда не будет правильным поступать несправедливо, отвечать на несправедливость несправедливостью и воздавать злом за претерпеваемое зло…» (Платон, 1968, с. 124). В этом же диалоге можно увидеть и осознание такого отличительного критерия истинного самопожертвования, как произвольности (добровольность); Сократ выбирает смерть несмотря на то, что имеет возможность безопасно скрыться, и своим отказом от бегства поднимает сделанное им на высоту истинно нравственного деяния. Наконец, стоикам мы обязаны формулировкой фундаментального принципа «мотивационной автономности» нравственного поступка: «награда добродетели есть сама добродетель». Этим, по существу, вводится представление о принципиально новом типе мотивации (нормативно-нравственной), не имеющем корней в индивидуалистических потребностях человека, связанных с самосохранением. Таким образом, уже в древности возникает вполне зрелое представление о нравственном действии, выделяются такие его черты, как бескорыстие (альтруизм), добровольность и мотивационная автономность.
В средневековой философии и в Новое Время разработка понятия нравственного действия велась в рамках противопоставления «разума» и «страстей». Для Декарта подавление аффектов – необходимое условие нравственного поступка. Спиноза видит высшую добродетель в блаженстве – познании абсолютного. Для него «…блаженство не есть награда добродетели, но сама добродетель; и мы наслаждаемся им не потому, что мы обуздываем свои страсти, но, напротив, потому, что мы наслаждаемся им, мы в состоянии обуздывать свои страсти» (цит. по Фейербах, 1974-b, с. 391). Тут нравственное наслаждение (блаженство) выступает как результат единства духа с самим собой, постижения им своей сущности, т.е. как «мотивационная автономия» духа.
Но, пожалуй, с наибольшей полнотой обоснование абсолютной автономности нравственного поступка, его «чистоты от всякой “психологической” мотивации» выступает у Канта. Нравственный человек, согласно Канту, сообразуется не с принципом счастья (стремления к удовольствию), а с принципом долга; Кант критикует широко распространенные в его время «эмпатические» теории нравственности (Хатчесон, Шафтсбери, Смит), согласно которым в основе нравственного поступка лежит сопереживание, сочувствие другому человеку. Ведь такое сочувствие, пишет Кант, имеет всегда конкретный, единичный, а не всеобщий характер; нравственный же закон (категорический императив) не может основываться на случайной мотивации. Каковы бы ни были твои чувства, гласит он, «поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом» (Кант, 1965-b, с. 260).
Что же может побудить человека к соблюдению этого закона? Разум, только разум – отвечает Кант. Даже нравственную самооценку, удовлетворение от сознания своей добродетели Кант объявляет «утонченным себялюбием» и отвергает в качестве нравственного мотива; ведь для того, рассуждает он, чтобы исполнение морального закона приносило ни от чего не зависимое удовлетворение, необходимо уже иметь понятие о добре и зле. «Впрочем, – пишет Кант, – я вовсе не отрицаю, что так как благодаря свободе человеческая воля непосредственно определяема моральным законом, то и более частое исполнение (его) …может в конце концов субъективно породить чувство удовлетворенности собой. Скорее, это наша обязанность вызывать и культивировать это чувство, которое, собственно, одно только и заслуживает название морального чувства; но из него нельзя выводить понятие долга, иначе мы должны были бы мыслить себе чувство закона, как такового, и делать предметом ощущения то, что можно мыслить только разумом» (там же, с. 358–359). Но в таком случае естественно возникает вопрос, каким же образом чистый разум может быть практическим, т.е. переходить в чувственность, мотивировать? Ответа на этот вопрос, согласно Канту, не существует, «…и все усилия и старания найти такое объяснение тщетны» (там же, с. 308). Таким образом, между нравственным законом как всеобщим и чувственной тканью человеческих поступков как единичным Кант воздвигает непреодолимый барьер.
Барьер этот необходим Канту для того, чтобы обосновать полную автономию нравственного мотива от какой бы то ни было чувственности. Саму же чувственность он не дифференцирует: и нравственное удовлетворение и чисто телесное наслаждение попадают у него в один и тот же «категориальный круг». Вместе с тем очевидно, что нравственное удовлетворение, будучи чувственным, тем не менее совершенно автономно от всякой чувственности, замкнутой на единичные «эго-потребности» индивида; оно, таким образом, имеет всеобщий характер. Для Канта же всякая чувственность в конечном итоге есть лишь причина зла («человек от природы зол»).
Следует выделить и еще одну формальную характеристику, которой Кант оснащает свой практический императив, – идею человечества; «поступай так, – пишет он, – чтобы ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого другого также как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (там же, с. 270). Эта идея позволяет ему отделить свой императив от требования «аскетического альтруизма» (непротивления злу). Так, наказание преступника, недопустимое с точки зрения евангельского всепрощения, вполне согласуется с практическим императивом, поскольку преступивший закон не является воплощением человечества.
Гегель, как и Кант, рассматривает моральный закон как всеобщее и даже выделяет этапы, проходя которые человек постепенно освобождается от власти чувственных влечений и становится способен на добровольное самопожертвование. Однако, в отличие от Канта и следующего за ним Фихте, он выступает против отрыва нравственности от чувственности; «…истинное содержание, – пишет он, – не только может быть в нашем чувстве, но и должно быть в нем; раньше принято было говорить: надо иметь бога в сердце» (Гегель, 1976, с. 307). Нравственный закон не находится вне человеческой природы, как это полагал Кант, а облекается в «тело» чувственности, при этом отнюдь не теряя в своем достоинстве и всеобщности. «Освободиться от особенности» для Гегеля не означает освободиться от всякой чувственности вообще, от всякого наличного бытия; напротив, это значит так организовать саму чувственность, чтобы в ней и через нее было выражено всеобщее. Художественное произведение хорошо не тем, что в нем в «обнаженном» виде выражена идея, а тем, что идея тут умело воплощена в уникально организованную чувственную ткань.
Дело, следовательно, в том, какая чувственность составляет ткань нравственного поступка. Если в его основе лежит нравственная самооценка (удовлетворение от нравственного достоинства своего поведения), «пробужденная» в человеке осознанием нравственного закона, то в этом поступке как раз и будет выражено всеобщее во всей его строгости и чистоте. Напротив, если он побуждаем иной чувственностью (мотивом страха или материальной выгоды), он теряет свою всеобщность, ибо чувственная ткань его сугубо случайна и эмпирична. По этому же критерию Гегель различает право и мораль. Право не интересуют мотивы, в силу которых человек совершает поступок; для него безразлично, благородны или корыстны эти побуждения. В то же время существенным моментом морали является «…умонастроение. Оно заключается в том, что долг исполняется потому, что так нужно. Следовательно, аморальным является как раз делать что-то из страха или для того, чтобы приобрести у других хорошее мнение о себе» (Гегель, 1971-а, с. 33–34).
Добрым поступком Гегель называет сознательное и добровольное следование моральному закону. Намерение же сознательно и с желанием вредить другим есть зло. Как и все остальные категории, Гегель ставит добро и зло в отношения взаимообусловленных противоположностей: добродетель есть не просто отсутствие зла, но непрерывное преодоление желания совершить зло, она «в самой себе есть противоположение и борение» (Гегель, 1971-b, с. 62); также и зло есть не просто отсутствие добродетели (таковым является и невинность), но ее активное отрицание.
***
К совершенно иной интерпретации морали приходят мыслители, которые, в отличие от классиков немецкой философии, стремятся целиком и полностью оставаться в границах cogito. Как мы видели, в этих границах не может быть признано наличие у человека каких-либо альтруистических, всеобщих нравственных потребностей. Понятия «общего блага», «морального акта», «объективности» и т.п. для такого мыслителя не имеют абсолютной ценности; это реалии, препятствующие удовлетворению эгоистических влечений индивида, помехи, которые он старается устранить или вынужден терпеть как неизбежное зло. Именно в этом пункте мы встречаемся с парадоксальным совпадением волюнтаристических и сциентистских концепций.
Так, для Ницше моральные нормы – это препятствия, которые общество ставит на пути сильных и независимых индивидов, стремясь ограничить их волю к власти; последние же пытаются преодолеть или уничтожить эти препятствия. Именно поэтому моральные нормы не имеют самостоятельной ценности. «Чтобы моральные ценности могли достигнуть господства, – пишет Ницше, – они должны опираться исключительно на силы и аффекты безнравственного характера» (1910, с. 93). Иными словами, человек может соблюдать моральные нормы или из соображений личной выгоды, либо в силу заблуждения, ошибочно уверовав в их абсолютную ценность.
Если в волюнтаризме моральный закон есть порождение самого индивида и потому выступает для него лишь как средство, то в сциентистских концепциях, основанных на естественнонаучной абстракции, индивид рассматривается как порождение среды, к которой принадлежат и моральные нормы. Лишенный «внутреннего», человек в этих концепциях снабжен лишь эгоистическими инстинктами, а то и просто описывается как реагирующий автомат, адаптирующийся к социальной и природной среде. Естественно поэтому, что для такого индивида моральный закон не может быть ничем иным, как одним из объектов для адаптации. Как известно, именно такие представления о моральном развитии составляют натуралистическое ядро психоанализа.
Еще более ярко эта точка зрения выступает в бихевиоризме. Для Скиннера, например, понятия «добра» и «зла» – не что иное, как обозначения позитивных и негативных подкреплений, выработанных культурой в ходе эволюции. Человек выполняет моральную норму не потому, что обладает «моральной потребностью», а потому, что норма эта подкреплена социальным контролем. Собственно говоря, культура – это и есть совокупность стимульных ситуаций, которые совместно с генетическим фондом вырабатывают у человека определенные реакции, и лишь в силу склонности к романтическим обобщениям последний облекает эти ситуации в красивую форму «норм» и «ценностей»; человек «отличается от других животных не потому, что обладает моральным или этическим “чувством”, а потому, что смог создать моральную и этическую социальную среду (Skinner, 1971, с. 167).
Таким образом, как в волюнтаризме, так и в сциентизме моральный поступок рассматривается лишь как средство достижения индивидом своих эгоистических целей; ни о какой автономии нравственного мотива речи тут не идет. Это совпадение неудивительно: ведь и волюнтаризм, и сциентизм – порождение одной и той же логической абстракции – cogito. И хотя одно направление рассматривает человека как чистую субъективность, а другое как вещь, ни то, ни другое не в состоянии лишить его «родимого пятна» cogito – принципиального индивидуализма. Это еще раз убеждает нас в том, что только «децентрация» человеческого сознания, выход за рамки cogito делает возможным понятие нравственного мотива, а следовательно, и самой нравственности.
***
Итак, анализ показывает, что в европейской культуре освоение «феномена человека» реализовалось в контексте двух различных логических традиций – традиции cogito и традиции интерсубъективности, каждая из которых налагает на исследователя свои ограничения и раскрывает свои перспективы. Так, мышление в рамках cogito позволяет нам ясно и отчетливо увидеть неразрывную связь таких фундаментальных категорий, как саморазличение, активность, психика, деятельность, творчество, выбор и т.п., с одной стороны, и понятий тела, материи, причины – с другой. Оно, однако, не дает нам возможности мыслить ту сферу понятий, к которой относятся категории «объективности», «долга» и «морального закона» и освоение которой требует перехода на позиции интерсубъективности.
Таким образом, понятия, которые могут быть осмыслены в cogito и которые не могут быть осмыслены в рамках этого метода, принципиально неравноправны, поскольку основаны на разных теоретических предпосылках. Осознание этого факта имеет важное значение потому, что в обычном словоупотреблении указанные группы понятий (например, понятия «творчество» и «нравственность», «независимость от воли и сознания» и «объективность», «мотив» и «нравственные побуждения» и т.п.) сплошь и рядом смешиваются, а иногда и просто отождествляются.
Особенно важен учет этого факта при конструировании таких сложных, «многомерных» понятий, какими являются понятия «нравственной потребности», «морального действия» и им подобные. Понятия эти существуют как бы в двух логических «измерениях»: в «проекции» на измерение cogito они дают понятия потребности и активности, а в «проекции» на измерение интерсубъективности – понятие нравственного закона. Именно к такого рода понятиям, как мы увидим, принадлежат понятия «свободы» и «личности».
2.5. Понятие потребности. Нормативно-нравственные и базовые потребности2.5.1. Потребность как диссонанс реального и идеального состояний системы
Понятие потребности принадлежит к числу тех предельно общих категорий, которым не может быть дано определения и объяснения, поскольку сами они – конечный пункт всякого объяснения. Да они и не нуждаются в определении в силу своей самоочевидности; вместе с такими понятиями, как активность, деятельность и т.п., понятие потребности составляет ту «ясную и отчетливую реальность, с которой начинается построение более сложных категориальных структур.
Как показал нам анализ cogito, понятие потребности находится в неразрывной связи с такими понятиями, как реальное и идеальное состояние, нужда, активность, материя и др. Их различение в cogito представляет собой, по существу, ряд тавтологических утверждений, которые, однако, в данном случае выполняют полезную роль выделения «многого в едином». Так, понятие потребности и понятие нужды усматриваются нами как родственные; состояние потребности (отраженной в самом субъекте, «экранированной» нужды) мы обозначили ранее как реальное (действительное) состояние системы, состояние, в котором нужда ликвидирована, – как идеальное состояние. Переход системы от реального состояния к идеальному мы назвали активностью, а препятствия на ее пути (то, что необходимо преодолеть, снять для перехода в идеальное состояние) – материей.
Далее, мы различили понятие сущности и идеального состояния. Сущность есть «генетически общее», то, что стягивает воедино бесконечное разнообразие эмпирической реальности и представляет собой «прообраз (prototypon) всех вещей, которые как несовершенные копии (ectypa) заимствуют у него материал для своей возможности и, более или менее приближаясь к нему, все же всегда бесконечно далеки от того, чтобы сравняться с ним» (Кант, 1965-а, с. 503). Она, таким образом, хотя и не является простым эмпирическим обобщением (ибо предполагает завершенность бесконечного числа таких обобщений) но составляет необходимое условие понимания человеком эмпирического мира. Характерной особенностью сущности является то, что она существует «для человека» как исследователя, но не для объекта «самого по себе»; напротив, идеальное состояние есть цель, поставленная себе самой системой (объектом), продукт ее собственного раздвоения и саморазличения. Если в первом случае сущность объекта предшествует его существованию и даже (руками человека) «формирует» его, то во втором существование предшествует сущности. Именно к объектам последнего типа и применимо понятие потребности.
Таким образом, потребность есть противоречие, содержащее в себе понятие активности или целенаправленного движения. Субъективно потребность выступает как желание, аффект, переживание. От такого понятия потребности следует отличать так называемую «объективную» потребность или нужду. Понятие объективной потребности возникает по мере разработки наукой теории разного рода сложных систем, функционирование которых связано с повышением энтропии, и особенно часто применяется по отношению к живым организмам. Впрочем, это понятие нетрудно «промоделировать» и на материале простейших динамических систем, типа системы «Земля – вращающийся волчок». Можно сказать, что для сохранения своего существования эта система «нуждается» в притоке энергии извне, расходуемой на преодоление силы трения; при неудовлетворении этой «потребности» система распадается. Вместе с тем очевидно, что такая динамическая система (и ей подобные) не является активной, поскольку ее идеальное состояние не представлено в ней самой идеально, как цель, а «поведение» ее в стандартных условиях целиком и полностью предсказуемо. Следовательно, описание «объективной потребности», по существу, равнозначно описанию сущности данной системы, сущности, к которой сама эта система равнодушна. Конечно, и многие человеческие потребности можно рассмотреть как «объективную нужду» организма; однако в этом случае человек выступает для нас не как активный субъект, а как вещь.
Напротив, потребность как состояние саморазличения предполагает «субъективную представленность» движения к цели; при этом цель есть то, что существует лишь идеально, в возможности. Отсюда, собственно, и следует противопоставление понятий реального и идеального; «понятие идеального, – пишет Гегель, – …состоит в том, что оно есть истина реальности» (Гегель, 1974, с. 237). Эта «истина реальности», по Гегелю, отнюдь не является чем-то эфемерным, лишь мыслимым; она имеет свойство объективироваться, приобретая вполне реальное, действительное бытие. В этом смысле и следует понимать знаменитое положение Гегеля о том, что «все разумное действительно», подразумевая тут не актуальную действительность разумного, а его тенденцию в качестве цели реального действительного субъекта воплощаться в наличное бытие.