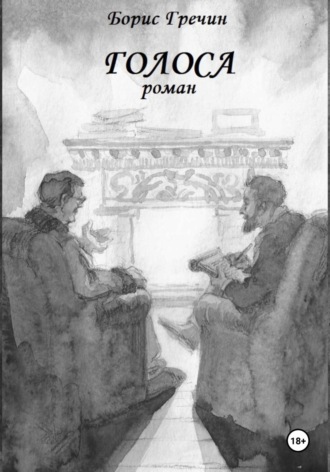
Полная версия
Голоса
«Освободите меня от аудиторной нагрузки на апрель!» – вдруг предложил я ему.
«Чего-чего?!» – изумился начальник.
«Освободите, говорю, меня от аудиторной нагрузки на апрель! Буду сидеть дома и работать над этой книгой. Напишу половину объёма, разбавлю текстом диссертации, накидаю ещё цитат, выписок…»
«А твои часы за тебя кто выдаст – дядя Петя?»
«Баран!» – чуть не сказалось у меня. Я ведь протягивал, можно сказать, руку помощи – а мне в эту руку почти плевали! Вслух я, правда, произнёс другое:
«Знаете, что, Владимир Викторович? “Делайте”-ка этот грант сами! Аванс вам отдам, когда скажете».
«Ты… ты как вообще со мной разговариваешь? – поразился Бугорин. – Смелый очень стал, да? От амбиций башню снесло? Может быть, ты заявление по собственному хочешь положить на стол?»
Я махнул рукой:
«Началось… Заявление? Да ради Бога, напишу хоть сегодня! Хорошего дня!»
[15]
Выйдя из кабинета завкафедрой – то есть это была просто часть нашей кафедры, отделённая стенкой от общей «преподавательской», – я был так зол, что в самом деле едва не сел и не написал заявление на увольнение! Немного остыл по пути домой, и в тот вечер всё думал: чем же зарабатывать деньги, если придётся уходить из вуза?
Обидно, огорчительно и тревожно было от того, что Бугорин после нашего разговора как пропал. Нет бы прислать мне короткое сообщение, что-то вроде «Извини, Михалыч, погорячился, бери отпуск за свой счёт, трудись над текстом»! Или наоборот: «Господин Могилёв, не хотите ли задуматься о поиске новой работы?» Даже такое сообщение позволяло бы мне понять, чтó делать дальше. А тут – ни Богу свеча, ни чёрту кочерга! Нехорошо, не по-мужски с его стороны.
С тяжёлым сердцем я лёг в тот день спать, а утром проснулся раньше обычного и понял, что мне пришло в голову решение.
Пришлось мне потревожить Настю ранним звонком и заручиться её поддержкой, заодно уж к слову рассказать о вчерашнем разговоре. А после, взволновав, огорчив и напугав свою аспирантку, я позвонил сразу Бугорину и договорился о новой встрече в его кабинете в большую перемену.
Владимир Викторович при моём входе руку мне подал – так, для условного рукопожатия – и даже чуть привстал из кресла, но ничего не сказал, смотрел на меня настороженно, исподлобья.
«Владимир Викторович, – снова перешёл я к делу без всяких предисловий, – треть моей учебной нагрузки на этот семестр – это часы в группе сто сорок один. Ещё две трети – группы сто сорок два и сто сорок три. На сорок первой группе у меня кураторство, и все мои дипломники тоже там. У меня есть идея, что сделать, чтобы и овцы были целы, и волки сыты».
Кажется, я тогда оговорился и сказал про сытых овец, но он даже и не усмехнулся.
«Отдайте мне, пожалуйста, сто сорок первую группу, полностью! – предложил я. – Мы снимем их со всех других занятий и устроим с ними своего рода “мозговой штурм”. Погрузимся в тему, возможно, распределим между ними работу – и за оставшееся время напишем коллективную монографию, то есть и не монографию даже, не тот жанр, а научно-популярную книжку. Я сведу их тексты вместе, отредактирую, и, глядишь, всё ещё будет хорошо!»
«Так, а кто возьмёт сорок вторую и сорок третью?» – немедленно спросил завкафедрой.
«Вишневская, – тут же дал я готовый ответ. – Я ей звонил сегодня утром, она согласилась».
«А что, у Вишневской своих лекций нет? Она разве не сдаёт никакой минимум по индивидуальному плану в этом году?»
Речь шла о кандидатском минимуме и о том, что аспиранты очной формы обучения должны посещать свои аспирантские лекции.
«Философию, – отозвался я. – Экзамен в июне, она успеет».
«Гм, успеет, успеет… А скажи-ка мне: у сорок первой ведь не только твои предметы? Какие у них зачёты в весеннюю сессию?»
«Холодная война, Цивилизации, Эволюция и Слово».
Это всё были наши обиходные, сокращённые названия для соответствующих дисциплин, например, «Эволюция системы международных отношений» или «Слово как исторический источник».
«Я поговорю с каждым педагогом, объясню им, что возникла особая необходимость, – прибавил я. – Ведь президентский грант! Российское историческое общество! Снимаем же мы их на всякие соревнования, бывает, и на неделю, и на две!»
«Да, но не перед сессией… А ведь у них, кроме зачётов, ещё экзамены?»
«Два у меня и один у вас, – тут же ответил я. – Неужели не поставим “автоматом” ради такого дела?»
«Что-то ты больно много на себя берёшь, Андрей Михалыч, что-то не дело ты затеял! Ты хоть понимаешь, что через две недели у бакалавриата заканчивается учебный процесс, а после весенней сессии у них сразу идёт преддипломная практика? Дипломы ты им напишешь?»
«Я предлагаю, Владимир Викторович, в виде исключения позволить им защищать в качестве диплома ту исследовательскую или, может быть, творческую работу, которую они создадут в рамках проектной группы за этот месяц».
«Темы-то уже утверждены, балда!»
«А мы не будем менять темы официально! Пусть по бумагам остаются старые темы!»
Завкафедрой задумался. Я ждал. Я был готов к его “нет” и с грустью думал о том, что это “нет” приведёт к отказу от гранта. Уже полученный аванс придётся возвращать, а то и чем хуже обернётся дело: меня обвинят в создании кафедре дурной репутации, а я, оскорблённый в лучших чувствах, и правда напишу заявление об увольнении по собственному желанию.
Бугорин хмыкнул:
«Ну, смотри ещё сам: какие из студентов исследователи? Что они там тебе сочинят?»
«Это хорошая группа, там умненькие ребята».
«Ага, ага, как же, – откликнулся он с откровенной иронией. – Помню с прошлого года, какие умненькие…»
«И жанр, Владимир Викторович, жанр не тот! Тут нужна не наука в чистом виде, а, как вы сами сказали, наука с элементами шоу, в стиле сценических завываний Радзинского».
«В том-то и дело, что мы не знаем, что точно нужно, ещё достанется нам за кустарщину, высмеют нас по всему миру, опозорят, как Каштанку на арене…»
«Каштанку не опозорили, она хорошо выступила», – тут же нашёлся я.
«А-а-а! – с неприязнью протянул он. – Всё-то ты знаешь, все-то концы у тебя схвачены! Ведь ты… ты же пользуешься моим безвыходным положением! Ведь ты пристал ко мне с ножом к горлу! Красиво это, по-твоему?»
Я развёл руками:
«Ну, давайте не делать так! Напишу в оргкомитет, что ошибка вышла, верну аванс».
«Вот-вот! – удовлетворённо и с некоторым злорадством заключил завкафедрой. – Это и называется “с ножом к горлу”! С паяльником в зад… Так и знал, что ты именно это и скажешь!»
Ещё немного мы помолчали. Бугорин в свою очередь развёл руками, как бы повторяя или, может быть, передразнивая мой недавний жест:
«Ну давай! Давай! Твори, выдумывай, пробуй! Но имей в виду: если хоть один студент откажется от твоей этой, как его, псевдолаборатории, мы не имеем права их заставлять! И если хоть одному из них не понравятся эксперименты в учебном процессе и он куда донесёт или там сболтнёт родителям, и они пожалуются, то я всех собак повешу на тебя! Ты только и будешь виноват! И с Вишневской тоже сам договаривайся, я тебе не помощник! И с всеобщей!»
Имелась в виду кафедра всеобщей истории, педагоги которой принимали у четвёртого курса ряд зачётов в конце апреля.
«Не будет, значит, никакого распоряжения об официальном освобождении группы от занятий», – вздохнул я, несколько притворно. Наличие такого распоряжения укрепляло бы мои позиции, а в его отсутствие заведующий кафедрой мог бы отказаться от своих слов и выставить меня виновником срыва учебного процесса. Что же, подумалось мне, заявление написать и тогда будет не поздно, а я ведь ещё вчера размышлял о том, не написать ли его, поэтому стоит ли копья ломать? И, наконец, если Бугорин так поступит, это будет исключительно непорядочно, а с непорядочным человеком лучше не работать, он все равно обнаружит свою непорядочность, не сейчас, так позже, поэтому что я теряю?
«Ещё бы тебе распоряжение! – подтвердил мой начальник. – Ишь чего! Видал фигуру из трёх пальцев?»
«Видал… И всё же спасибо, Владимир Викторович», – сдержанно поблагодарил я.
«Ладно, ладно», – Бугорин махнул рукой в направлении двери, как бы показывая мне, что пора мне и честь знать.
Значит, нужен ему этот грант, значит, вопрос его ухода на более высокую должность пока не решён ни в положительную, ни в отрицательную сторону, прикидывал я, выйдя из кабинета начальника. Но почему тогда вчера он повёл себя так барственно, равнодушно, почти по-хамски? И зачем две недели назад нарочно не отдал мне положение о конкурсе? Или не нарочно? Или я зря пытаюсь увидеть интригу там, где есть простая небрежность, граничащая с равнодушием к делу и сотрудникам? Даже и это равнодушие, конечно, объясняется: мыслями он уже не на кафедре, а в более высоких сферах. Неужели и я таким стану, когда и если усядусь в его кресло?
[16]
Но эти грустные мысли в обед все выветрились из моей головы. Я уже всей душой был внутри нового проекта. После обеда я вошёл в аудиторию триста один, где меня ждала сто сорок первая группа, неся в обеих руках высокую стопку книг.
Мне кажется, я весь лучился энтузиазмом, но студенты сначала этого не заметили. Книги, которые с шумом приземлились на преподавательский стол, вызвали вздохи.
«Мы всё это будем сегодня читать?» – жалобным голосом спросила меня Лиза Арефьева.
«Мы будем это читать!» – ответил я с молодой энергией. По аудитории пронёсся новый карикатурный стон.
«Может быть, ещё и конспектировать?» – почти неприязненно уточнила Акулина Кошкина, та самая Акулина, которая терпеть не могла, когда её называли полным именем.
«Мы будем это, может быть, и конспектировать! – был мой новый ответ. – Ну-ну, всё, хватит, не нойте! У меня есть для вас важное объявление».
И в двух словах я рассказал им свою задумку, как и то, что уже получил принципиальное одобрение заведующего их выпускающей кафедры.
«Обратите внимание на то, что я не ставлю вас перед фактом, – прибавил я в конце своего объяснения. – Вы ещё можете отказаться – вы имеете на это право. Я собираюсь поговорить с каждым из тех педагогов, кто у вас принимает зачёт в ближайшую сессию, о том, чтобы вам эти зачёты поставили “автоматом”, на основе конспектов, может быть… Но я не могу это обещать, учитывая, что двое из них – с кафедры всеобщей истории! Дорог каждый день, поэтому я очень хотел бы, чтобы вы приняли решение сейчас. Вам нужно время, чтобы посоветоваться друг с другом?»
Нет, им не нужно было время! Глаза у них загорелись. Борис Герш, встав с места, картинно приложил руку к сердцу и проговорил с комическим акцентом:
«Вам, Андрей Михайлович, весь еврейский народ сегодня говорит спасибо в моём лице! Вы к нам сегодня явились как Оскар Шиндлер и Моисей со скрижалями завета! – эта фраза вызвала, конечно, общий смешок. – Нет, без шуток, Андрей Михайлович, – продолжил Герш, – вы спасаете нас вашим проектом. Это невероятно кстати!»
Я всё же попросил группу проголосовать мою идею, и все десять студентов дружно подняли руки «за».
Альфред Штейнбреннер – в моей группе был один немец, из так называемых русских немцев – попросил слова и задал мне вопрос о методах и методологии нашей будущей работы.
«Я вижу эту методологию пока неясно, – признался я. – Сейчас я только могу сказать, что вы сможете взять каждый своё направление, и одновременно групповая работа вроде “умственного штурма”, совместного обсуждения гипотез, тоже окажется плодотворной. Может быть, мы захотим ставить нечто вроде “следственных экспериментов” или коротких сценок, чтобы погрузиться в психологию наших персонажей».
«Следственных экспериментов? – серьёзно уточнила со своего места Ада Гагарина, староста группы, известная правдоискательница. – Прекрасная мысль, но тогда нужен будет и суд». Группа поддержала её новыми смешками и одобрительным возгласами.
«Может быть и суд, – уклонился я от прямого согласия. – Но, коль скоро я сам заговорил о персонажах, думаю, что самым плодотворным методом, лежащим в основе всего, будет выбор каждым из вас одной исторической личности изучаемой эпохи. Та стопка материалов, которая вас так неприятно поразила в начале занятия, – это не только монографии и не только сборники документов. Большей частью это воспоминания непосредственных участников тех событий. Кстати, я создал группу в социальной сети, где все эти материалы есть в электронном виде».
Предвосхищая ваш вопрос, поясню: мне ничто не мешало в самый первый день нашей работы тем или иным способом переслать студентам электронные версии всех этих книг. Скажем, я написал бы ссылку на доске, и они проследовали бы по этой ссылке, введя вручную в свои телефоны. Но, видите ли, для библиотекаря старой школы, даже бывшего, книга, которой нет на бумаге, как бы и вовсе не существует. Те материалы, что я не смог купить, я распечатывал на кафедре после занятий и переплетал сам. Для своей собственной докторской, конечно: все они у меня не вдруг появились. И, кроме прочего, я хотел, чтобы эта стопка источников встала перед моими студентами в своей весомой материальности и, что ли, бросила им вызов своей вещественностью. Разве может такой вызов бросить последовательность единиц и нулей на электронном устройстве?
«Вы их все нашли в нашей библиотеке?» – уточнил Марк Кошт.
«Не угадали, это мои собственные, – ответил я. – Несколько пришлось, как видите, распечатать, в магазинах их нет».
«Вы все их читали? – почти с благоговением спросила Марта Камышова и на мой утвердительный кивок только глубоко вздохнула: дескать, куда нам, недалёким, до такой научной самоотверженности!
«Дайте мне роль Пуришкевича!» – громко предложил Герш, чем, само собой, вызвал новый общий смех. Вы ведь помните, что Пуришкевич был завзятым националистом?
– Смутно, – признался я и прибавил:
– Как я завидую вашим студентам! Они охватывали своей памятью целый особый мир со всеми его мелкими деталями, нам, обывателям, почти неизвестный.
– Только равнодушие обывателя удерживает его от знания этого мира и всех ему подобных, – заметил Андрей Михайлович. – Кроме того, и этот мир, как и наш, с избытком содержал в себе боль и слёзы, обман и предательство.
– Но и благородство? – возразил я. – Недаром ведь вы говорили про крупный жемчуг?
Могилёв не спеша кивнул.
– Благородство, – полусогласился он. – Однако жемчуг, не забывайте, бывает и чёрный. Их ужасы были тоже крупнее наших.
[17]
– Итак, идея пришлась по вкусу, но после первых шутливо-восторженных слов одобрения группа задумалась, даже немного затаилась. Я разобрал стопку книг и разложил их на своём столе, чтобы облегчить выбор. Студенты столпились вокруг стола, рассматривая обложки, а Марта даже брала книги одну за другой и взвешивала их на своей ладони.
«Я правильно понимаю, что источников биографического характера здесь больше десяти?» – первым нарушил молчание Штейнбреннер.
«Верно», – согласился я.
«И даже представленный материал… Мы при всём желании не сможем охватить всех ключевых, э-э-э, узловых деятелей той эпохи, разве нет?» – не унимался наш русский немец.
Я согласился и с этим, на что он задал следующий вопрос:
«Имеются ли в педагогике прецеденты такого неполного, выборочного охвата изучаемого материала?»
«Да! – нашёлся я. – Это называется “экземплярным изучением”, идея которого принадлежит Рудольфу Штейнеру, основоположнику вальдорфской педагогики. Вашему соотечественнику, между прочим! И почти что тёзке».
«Слово “соотечественник” здесь не совсем подходит, как и слово “тёзка”… но благодарю вас, я полностью удовлетворён», – серьёзно ответил Штейнбреннер, а я мысленно похвалил себя за то, что в вузе не пропускал лекции по педагогике. Никогда не знаешь, что пригодится.
«Альфред в очередной раз победил на конкурсе зануд, поздравляю!» – ввернула Лиза под общий смех.
Тут я прервал своего рассказчика:
– Рискую занять на этом конкурсе второе место, но всё же спрошу вас: даже «узловых» фигур того времени, если пользоваться выражением вашего немца, не десяток и не два, как я вижу со своей обывательской колокольни. А вы предоставили своим студентам выбор. Значит, вы были готовы к тому, что их выбор будет отчасти произвольным? Что какую-то исключительно значимую фигуру вроде Распутина, например, никто не выберет, потому что она окажется всем несимпатичной?
– Да, само собой! И вы угадали – никто не взял Распутина. Хотя Распутин переоценен, а мне, – оживился Могилёв – было, например, обидно, что Константин Иванович Глобачёв или, например, Александр Павлович Мартынов тоже остались неразобранными. Это – начальники Петроградского и Московского охранных отделений, оба – прекрасные офицеры, русские патриоты. Ещё я огорчился тем, что ни один из религиозных деятелей или философов того времени тоже не был взят. Это, правда, отчасти и понятно: священники и философы всегда стоят как бы над схваткой, а людям, включая студентов, обычно интересны те, кто находится в гуще событий.
– Но – простите за то, что прервал – этим ваша работа не лишилась некоторой доли объективности? Может быть, стоило выбрать за студентов? Простите меня, пожалуйста, за то, что пытаюсь быть бóльшим немцем, чем ваш Штейнбреннер! Я просто предвосхищаю тот же самый вопрос, который могут задать другие.
– Безусловно, лишилась, – согласился Андрей Михайлович. – Но, видите ли, я вообще не верю в научную объективность как таковую! Мы исследуем любой феномен своим собственным умом, а не холодным искусственным интеллектом, глядим своими глазами, потому что у нас нет других. Объективен ли Солженицын, приложивший все мыслимые усилия для того, чтобы быть объективным? Да что Солженицын! Объективен ли сам Лев Николаевич Толстой с его рассуждениями о Кутузове и Наполеоне? А если нет, что же, мы выбросим «Войну и мир» в мусорную корзину? Да, мы сузили область нашего видения их произвольным выбором! Но ведь группа, с которой я работал, была набором живых людей с их достоинствами и изъянами, как была бы любая группа, и этим людям были интересны именно их – как бы назвать? – антиподы? Визави? Харáктерные прототипы?
– Соответствующие точки контрапункта на параллельном нотном стане, – предложил я.
– Прекрасное определение! – согласился Могилёв. – Лингвистически, правда, несколько неуклюжее.
«Пожалуйста, прошу вас! – снова пригласил я студентов. – Будем пока считать ваш выбор предварительным, но ведь надо начинать с чего-нибудь! Если вы колеблетесь, разрешите мне идти по списку группы. Арефьева Лиза?»
«Тут есть моя тёзка, – пробормотала Лиза. – Великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Как бы её имя подсказывает…»
«Ваша светлость, поздравляю!» – выкрикнули из заднего ряда.
«“Ваше сиятельство”, – поправил я. – Гагарин Эдуард?»
«Как вы думаете, кем я могу быть… кроме Феликса Феликсовича?» – заявил высокий Эдуард-Тэд, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, слегка улыбаясь. Он имел в виду Феликса Юсупова.
«Да, пожалуй! – согласился я. – Гагарина Альберта?»
Эдуард и Ада были братом и сестрой, а полным, паспортным именем Ады было Альберта. Причудливы иногда желания родителей.
– Почему не Аделаида? – невольно прервал я рассказчика. – И почему тогда не Берта как уменьшительное имя?
– Затруднюсь вам сказать, почему! Знаю только, что в журнал посещений третьего курса она действительно была вписана как Аделаида, но я в качестве куратора имел доступ к их личным делам и однажды, подшивая в них какую-то справку, наткнулся на копию её паспорта.
«Не знаю – разбегаются глаза, – серьёзно ответила наша Альберта-Аделаида. – Но почти все женские персонажи уже взяты, кроме Коллонтайши, а в ней есть что-то, что меня отталкивает».
«Александра Фёдоровна?» – подсказал кто-то.
«Нет уж, пусть кто другой берёт эту мадам!» – живо и даже с какой-то неприязнью отозвалась Ада.
«Тогда Александр Фёдорович, – предложил я с улыбкой, имея в виду Керенского. – У вас и стрижка похожа».
Ада была худой девушкой с чисто мальчишеской стрижкой – я, кажется, сказал об этом раньше, нет? – и на улице в зимней одежде легко могла сойти за мальчика.
«А вы знаете – да! – вдруг согласилась староста. – Да! Он мне интересен». «Более того, это почти идеальное попадание», – мысленно отметил я.
Вслух я продолжил идти по списку:
«Герш Борис? Неужели Пуришкевич? Вы это всерьёз?»
Герш помотал головой. Но при этом улыбнулся, как-то очень лукаво, как только одна его нация и умеет улыбаться.
«Пуришкевич – это всего лишь злобный клоун, – пояснил он. – Но я на самом деле всегда хотел понять антисемитов, влезть в их туфли… Поэтому – Василий Витальевич Шульгин!»
Его выбор был одобрен недоверчивыми восклицаниями вперемешку со сдержанными хлопками.
«Камышова Марта?»
«У меня отняли Елизавету Фёдоровну, – глухо произнесла Марта. – Поэтому пусть будет Матильда Кшесинская».
«Мартуша, да ведь мы можем поменяться!» – тут же отозвалась Лиза, но Марта отрицательно покачала головой.
«Надеюсь, вы не поссоритесь из-за этого… – примирительно пробормотал я. – Кошкина Акулина, извините, Лина?»
«Коллонтай Александра, – отозвалась Лина как-то по-военному. – Я на “Ко”, и она на “Ко”. Ещё Коллонтай – наш рабочий человек, а не чужая содержанка».
Марта на этом месте посмотрела на Лину внимательно, серьёзно, как бы с упрёком – но ничего не сказала.
«Записал. Кошт Марк?»
«Гучков», – ответил Марк просто и чётко.
«Не могу не одобрить! – похвалил я. – Да и то, как в нашей истории без Гучкова? Орешкин Алексей?»
Алёша потерянно посмотрел на меня своими выразительными глазами с длинными ресницами. (Будь я девочкой, я бы не пропустил этого парнишку, замечу в скобках.) Признался:
«Я не знаю, простите! Это так сложно…»
«Хорошо, подумайте ещё, – согласился я. – Сухарев Иван?»
«Выбор действительно очень сложный, – начал Иван с полной серьёзностью. – Но если отвлечься от всех личных симпатий и антипатий, а у меня, фактически, нет симпатий ни к одному из предложенных, как и антипатий, то одна из ключевых фигур того времени, фигура, которая стала точкой пересечения для целого ряда сил, точкой поворота и перелома, – это генерал Алексеев».
«Спасибо, я отметил! – нечаянно я глянул на свежее личико Лизы и подумал: она вот-вот скажет о том, что у нас появился второй претендент на должность председателя клуба зануд. – Штейнбреннер Альфред?»
«Умственно, эмоционально и, так сказать, мировоззренчески мне из всех представленных ближе всего Павел Николаевич Милюков», – ответил Альфред с готовностью и даже с каким-то удовольствием.
«И очень хорошо, рад, а то без Милюкова тоже было бы скучно… Меня, правда, беспокоит, товарищи студенты – я даже готов называть вас “коллегами” на время этого проекта, – так вот, меня беспокоит, что у нас нет Государя…»
«Ну конечно, это будет Лёша Орешкин! – выкрикнула кто-то из девушек, наверное, Лиза, и все оживлённо загалдели:
«Да, в десятку!»
«Удачно, удачно!»
«Тебе бы ещё немного подкачаться, Лёха, и бороду отпустить, и будет прямо одно лицо!»
«Давайте сейчас вырежем из бумаги корону и его коронуем?»
«Не надо корону! – взмолился Алёша, приметно покрасневший. – Андрей Михайлович, пожалуйста, скажите им, что этого не нужно, не нужно превращать историческую драму в… в цирк!»
«Хорошо, безусловно, – ответил я с улыбкой. – Девочки, уймитесь, не надо бумажной короны. Но, кажется, невесомую и умозрительную корону Алексею всё же придётся принять, точно так же, как и у реального Николая Александровича не было возможности от неё отказаться».
[18]
– После мы не разошлись, а продолжили работать. Я дал группе краткую характеристику источников, вручил каждому студенту те книги, которые лучше всего описывали его героя, и предложил приступать к чтению прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, а в тетрадях делать выписки. Зашелестели страницы. Я, устроивший из аудитории подобие монастырской библиотеки, ходил между рядами и тихо радовался.
После окончания занятий я забежал на соседнюю кафедру, чтобы получить телефоны преподавателей «Истории цивилизаций» и «Эволюции системы международных отношений». Телефоны мне дали, хотя и со скрипом. Когда я вернулся на свою кафедру, мои коллеги уже все разошлись – ну, или мне так показалось. Я завязал шарф перед зеркалом – мы вешали верхнюю одежду в платяном шкафу – и тут услышал за спиной:
«Андрей Михайлович! Вы мне ничего не хотите сказать?»
Я обернулся.
Настя Вишневская сидела на диванчике в углу кафедры, и сидела так тихо, так неподвижно, что я её в первые секунды и не заметил.
«Сказать? Я, Настенька, даже и не знаю, что…» – потерялся я.
«А я на вас, Андрей Михайлович, обижена, серьёзно обижена!»
«Вот ещё, что ещё стряслось, почему?! За то, что я вам всучил часы у бакалавров?»






