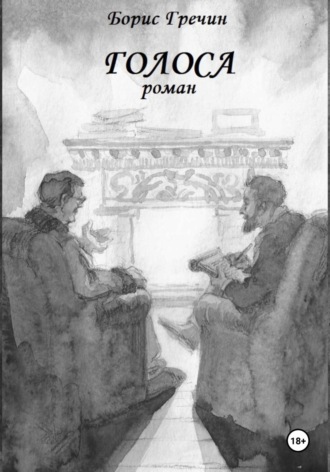
Полная версия
Голоса
Итак, я предположил, что назначат Суворину. Юлия Сергеевна замедлила шаг (и я вместе с ней), посмотрела на меня, повернув голову как-то набок, к плечу, взглядом умной птицы:
«А вы не знаете разве, что на руководящие должности не назначают людей пенсионного возраста?»
«Но ведь делают исключения?» – ответил я вопросом на вопрос.
«Делают, но это при научных заслугах. А мы же знаем, что у Ангелины Марковны, между нами, нет особых научных заслуг».
Мы, кажется, даже остановились тогда.
«Теряюсь в догадках, – оробел я тогда. – Вас?!»
Печерская усмехнулась, как бы подавилась коротким смешком. Разъяснила мне снисходительно, как школьнику:
«Да нет же, Андрей Михайлович! Я старший преподаватель, а вы в прошлом году получили доцента. Я кандидат наук, а вы докторант. Ну, подумайте-ка ещё раз!»
«Юленька Сергеевна, милая моя! – воскликнул я. – Я вам совсем не собираюсь перебегать дорогу!»
У нас на кафедре в ходу были, такие, знаете, шутливые обращения друг к другу, состоящие из уменьшительного имени и отчества, вроде английского Mrs Kitty или Mr Andy. Кажется, я и ввёл эти обращения в обиход.
«“Юленька Сергеевна”, как мне в вас это нравится… А я, думаете, собралась перебегать вам дорогу? Я, по-вашему, злобная карьеристка, которая всех расталкивает локтями?»
«Я этого не сказал…»
«Ещё бы сказали! Я, Андрей Михайлович, трезво оцениваю свои шансы получить рекомендацию от кафедры. Меня не любит половина наших молодых».
«А меня, значит, любят?» – уточнил я немного иронически.
«Вы знаете, да! – ответила моя коллега. – Все просто восхищались тем, как вы укротили группу сорок один! Я, по крайней мере, восхищалась!»
Небольшое отвлечение, если позволите. У этой группы бакалавриата в прошлом году вышла история, и, кстати, именно с Бугориным, который что-то у них вёл. Не сошлись они во взглядах с Владимиром Викторовичем, а вернее всего, как передавали, тот что-то грубое сказал одной студентке, усомнившись в её способностях. Группа стала на защиту обиженной: рассказывали, в частности, о каком-то анонимном обличительном письме, которое студенты то ли написали самому завкафедрой, то ли пустили по рукам других студентов как прокламацию. Сам я, однако, этого письма не видел, не читал и старался избегать этих обсуждений. Это письмо, помнится, так разозлило нашего начальника, что он поставил на экзамене в этой группе две «двойки», а всем остальным – «удовлетворительно». Что ж, каждый имеет право оценивать знания студентов как ему заблагорассудится… Но группа, обидевшись, написала заявления на отчисление в полном составе. Староста принесла аккуратную стопочку этих заявлений в деканат. Это был жест, конечно. Я предложил начальнику устроить некую согласительную комиссию и, может быть, переэкзаменовку. Он отказался. Тогда я попросил у него разрешения поговорить с этой группой, и такое разрешение мне дали. До того они меня знали поверхностно, как одного из педагогов.
Говорили мы долго, всё сдвоенное занятие, которым я безжалостно пожертвовал. Я сумел преодолеть их первоначальную колючесть и терпеливо выслушал все их обиды. Я признался, что, не одобряя их поступка, ценю его энергию и продиктовавшие его чувства. Я рассказал им, что и сам в юности был очень упрямым. Я поделился с ними мыслями о том, что, уйдя из вуза сейчас, они накажут этим только себя, а значение этой несчастной «тройки» в их дальнейшей профессиональной жизни будет ничтожным. Я обещал лично переэкзаменовать тех, кто получил «неуд», если только начальство позволит мне это сделать. Хрупкий мир был достигнут, студенты забрали заявления, а на то, чтобы я переэкзаменовал не сдавших экзамен, Бугорин согласился неожиданно легко. Но при этом группа поставила странное, забавное, даже трогательное условие: я должен быть их куратором в следующем году. Я согласился, хотя раньше бежал от любого кураторства как чёрт от ладана. Руководство кафедры также не нашло возражений.
Но вернусь к своему разговору с Печерской, которая как раз поясняла мне:
«А у меня нет такой популярности. Ну и зачем мне тогда сс**ь против ветра? Pardon my French9».
Непечатное слово она произнесла даже с удовольствием, бравируя им. Я шутливо приложил руку к сердцу, показывая, что сражён экспрессией её языка. Она именно такой реакции и ждала.
«Вот если вы, уважаемый Андрей Михайлович, слетите в первый год – тогда да! – как ни в чём не бывало рассуждала Печерская. – Тогда мы поборемся…»
«Почему это я должен слететь?» – я почти обиделся.
«Гляньте-ка на него: ещё не сел в кресло, а уже цепляется! – поддразнила она меня. – По неопытности. Из-за наших бабьих интриг, например. Но я вас буду поддерживать, имейте в виду».
«Почему именно меня?»
«Потому что, а), у вас больше шансов против Сувориной, и бэ), с вами будет проще жить, – пронумеровала мне Печерская. – У Сувориной ведь целый тараканий выводок в голове! Вы не замечали?»
«Я не имею права судить людей…»
«Вот, и поэтому тоже, – с удовольствием отметила моя коллега. – Можно полную откровенность, Андрей Михалыч? Вы в своей жизни были пришиблены этим вашим православием, так и ходите пришибленным, и поэтому “не имеете права судить”. Я в хорошем смысле сказала, не обижайтесь! А девяносто девять процентов людей судят других! И судят плохо. Вот поэтому, когда вопрос о рекомендации поставят, я буду голосовать за вас. Только чтобы этот разговор был между нами – договорились?»
Мы перекинулись ещё парой фраз, прежде чем попрощаться. Я не придал этому разговору особого значения, потому что слух о переводе Бугорина на более высокую должность пока был только слухом. Он ничем не подтверждался!
[11]
– Я, повторюсь, не придал той беседе значения, но, возможно, придали другие. Не знаю, как вращались невидимые мне колёса и шестерёнки, но на следующий день завкафедрой вызвал меня к себе. Никаких провинностей за мной не водилось, но шёл я с некоторой опаской.
Владимир Викторович посадил меня за кафедральный стол боком к своему начальственному месту и молчал, сопя. Я ещё больше оробел.
Здесь – пара слов о внешности нашего заведующего, просто чтобы вам мысленно его увидеть. В том году Владимиру Викторовичу было почти пятьдесят, но выглядел он вполне ещё «по-боевому». Конечно, годы уже давали знать о себе: вот и отдельные седые волосы появились, и лицо как-то набрякло… (Ах, ладно, никто ведь не молодеет, и я давно уже не красавец, мысленно сказал я тогда себе.) Не самого высокого роста, но кряжистый, с твёрдым подбородком, широкой переносицей (нос у него как будто был сломан в юности, впрочем, руку на отсечение об этом не дам), с очень коротко стриженными тёмными волосами и щетиной почти всегда одной и той же «недельной» длины, он до сих пор немного напоминал «братка», нечаянно приземлившегося в кресло заведующего кафедрой. Я не раз собирался спросить его в шутку, был ли он в своё время настоящим «новым русским», но так и не спросил ни разу: какой-то несколько грубый вопрос, не находите? Да и важно ли?
Бугорин наконец перестал сопеть и положил передо мной какую-то бумагу, которую – я даже вчитаться не успел – убрал через пару секунд.
«Вот, погляди! Это конкурс! Называется “Летопись Русской Смуты”!»
«Студенческих работ?» – уточнил я.
«“Студенческих”, балда! – передразнил он. – Позвал бы я тебя ради студенческих! Научных! Научно-популярных вообще-то. Весёленькое такое надо написать, понимаешь, с придумкой, сделать науку с элементами шоу. Гляди, твоя ведь тема!»
«Я не специалист по Смутному времени!»
«Да не по Смутному времени, а это про революцию! Там в описании сказано!»
Бумагу с положением конкурса он мне при этом так и не вернул, будто нечаянно забыл.
«А чей, кто организатор?»
«Агентство стратегических инициатив вместе с Российским историческим обществом. Это федеральный конкурс, понимаешь, федеральный, президентский, и дадут федеральный грант! Слушай, Михалыч! Тебе, это… Тебе сам Бог велел писать заявку!»
«Владимир Викторович! – почти взмолился я, – Ну нет ведь никаких сил, как мальчик, участвовать во всяких конкурсах под конец учебного года! И вы же сами сказали, что они ожидают научно-популярного текста, не строго научного! Им надо живенько, с хохмочками. А я не популяризатор, не Анатолий Вассерман! Нет у меня таланта господам, у которых в усах капуста недокушанных щей, делать интересными вещи, которые им никогда не были интересны!»
«Что у вас, Андрей Михайлович, за странные представления о работе популяризатора! И что у вас за отношение к инициативам Президента! И капуста здесь при чём?»
Тут тоже пояснение: Бугорин, мужик не особенно чуткий, грубоватый, легко и без всякого стеснения переходил от «ты» к «вы» и наоборот, не только со мной, а вообще с любым сотрудником, причём его «ты» в сочетании с отчеством без имени, видимо, изображало задушевность, а «вы» вместе с отчеством и именем, видимо, показывало немилость. Мне и то, и другое было не очень приятно. Как говорится, минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь.
«Ни при чём: цитата из Маяковского», – пояснил я про капусту.
«Да у тебя ещё есть время, полно, до конца года! – принялся убеждать он меня. – Ты же в материале, Михалыч, у тебя ведь не голова, а Дом Советов! Чтó, не напишешь за лето свой опус? Там смотри какая сумма вкусная! – он написал на бумаге и показал мне сумму гранта. – Половина на сопутствующие расходы, подотчётно, и половина как премия. А я тебе ещё премию дам! Вот такую», – он написал рядом с первой суммой вторую, поменьше, но тоже внушительную.
Я задумался. Дело в том, что я к тому времени как раз закончил строительство дома – вот этого, где мы сейчас находимся, а сделать отопление сразу денег не хватило. Мне хотелось именно камин, хотя камин не очень удобен как основной источник отопления. Мне пришлось в итоге дополнить камин водяным отопительным контуром, а в подвале у меня твердотопливный котёл.
– Неужели вы накопили на дом с зарплаты преподавателя? – полюбопытствовал автор этих строк.
– Частью – да, представьте себе! – пояснил Андрей Михайлович. – Я ведь сохранил почти монашеские привычки, а квартировал у пожилых родителей, тогда ещё и отец, и мама были живы. Отец скончается через год после этих событий. Хоть я жил очень скромно, наверное, мозолил им глаза. Верней, не это, не только это, а вот: они, наверное, чувствовали свою невольную вину за моё неудавшееся монашество. Мама несколько раз заводила разговор о том, что я даже не пытаюсь поискать себе невесту, а ведь жизнь проходит. Я в шутку – но только наполовину в шутку – отвечал, что Церковь мне запретила венчаться и что я буду вынужден в самом лучшем случае довольствоваться безблагодатным гражданским сожительством. А ведь такое сожительство – на грани блуда! Или уж настоящий блуд? Если блуд – то придётся мне в нём регулярно каяться на исповеди. А поскольку каяться я в жизни с женой, не видя в том никакой своей вины, не смогу, то выйду за пределы Церкви вовсе, а тогда уж сам к себе применю правило семь Четвёртого Вселенского Собора и отказом от исповеди, так сказать, самоанафематствуюсь. Ох, она страсть не любила такие разговоры! И потом, продолжал я более миролюбиво, куда же я приведу свою жену, пусть даже невенчанную? К себе в комнату?
Отец в таких беседах никогда не участвовал, но мама, видимо, ему пересказывала – и вот, они дали мне половину суммы, нужной для постройки дома. А земельный участок они же подарили ещё раньше. Переехать в свой дом уже очень хотелось! Нарисованные Бугориным на бумаге суммы решали вопрос с отоплением. Вместо камина можно было бы сложить печь или, наконец, поставить котёл с водяным контуром, если бы я сделал выбор в пользу большей практичности. Само собой, одного только отопления недостаточно для сколько-нибудь удобной жизни в отдельном доме: желательна канализация, а не будка над выгребной ямой на улице, внутренний водопровод, а не уличный колодец… Впрочем, я ухожу в сторону от своей истории: думаю, что никому, кроме моих близких, не интересны эти прозаические детали.
Итак, я согласился работать над научно-популярной «Летописью Русской Смуты», если удастся получить грант – и мой завкафедрой прямо расцвёл, чуть не полез ко мне обниматься. Но, тут же прибавил я жалобным голосом, писать саму заявку у меня действительно нет никакого желания. Может быть, поручить моей аспирантке?
В начале того учебного года ко мне действительно прикрепили аспирантку, Настю Вишневскую, единственную тогда аспирантку на нашей кафедре. Я был докторантом, а докторантам быть научными руководителями аспирантов разрешается, верней, полупозволяется, примерно так же, как студентам старших курсов педагогического вуза полупозволяется работать учителями в школе. Первым руководителем Насти был сам Владимир Викторович, но в конце первого года её аспирантуры они на чём-то не сошлись, девушка проявила характер и, за отсутствием других вариантов, перешла ко мне.
– То есть история с группой сорок один в её случае как бы повторилась? – спросил я на этом месте.
– Д-да, пожалуй, – подтвердил рассказчик. – Я боялся, что, помня эту историю, Бугорин не позволит отдать эту работу Вишневской, уже ругал себя за то, что не сообразил попросить её тихим образом, не спрашивая разрешения начальства, но, к моему удивлению, завкафедрой ответил как ни в чём не бывало:
«А я, представляешь, и сам тебе хотел это предложить!»
Мы пожали друг другу руки, и я, выходя из кабинета, облегчённо вздохнул. Была ведь опасность того, что начальник проведал про мой разговор с Печерской и про моё желание сесть в его кресло, мог ведь получить от него знатную нахлобучку! Нет, кажется, пока всё обошлось…
[12]
– В тот же день я позвонил Насте Вишневской, своей умненькой и хорошенькой аспирантке, и попросил её подготовить заявку на грант.
– «Умненькой», «хорошенькой», – пробормотал я, едва удержавшись от улыбки. – Так и хочется спросить… но, извините, не моё дело.
– Вы хотите спросить, не дышал ли я неровно к своей подопечной? – догадался Андрей Михайлович, тоже улыбаясь, и снова – только краем губ. – Нет. Н-нет, – повторил он с долгой «н» и пояснил: – Моя заминка в этом втором «нет», конечно, естественна, когда такой вопрос задаётся про молодую красивую женщину и одинокого мужчину. Но я, во-первых, считал, что есть определённые границы и правила, которые для преподавателя так же священны, как для монаха – его обеты. Во-вторых, я никогда не забывал, что Насте – двадцать пять лет, а мне – тридцать девять, что она – красавица и умница, у которой всё впереди, а я – уже потрёпанный жизнью мужичок, что, проще говоря, она не моего поля ягода. Вообще, в любой юной и привлекательной женщине есть это торжество, это осознание своей высокой цены, так что рядом стушёвываешься и начинаешь думать про себя: ты-то куда, со свиным рылом да в калашный ряд? Понаблюдайте… Вам нужно было видеть Настю тогда: высокая, сильная, яркая, с прекрасными тёмно-русыми волосами, чуть волнистыми, она их то схватывала резинкой, то разбрасывала по плечам. Да и куда бы я её привёл, в конце концов?! В комнату тесной «хрущёвки», где жил вместе со своими родителями? Дело, кроме того, осложнялось тем, что Настю я помнил ещё студенткой бакалавриата, с её третьего курса, после – магистранткой, и всё это время она мне несколько юмористически давала понять, что она мне симпатизирует. То есть, если вы понимаете, понарошку симпатизирует, это превратилось в своего рода безобидную игру, её сокурсники тоже включились в эту игру и отпускали беззлобные шутки по этому поводу, которые она не без удовольствия поддерживала. Именно потому они и позволяли себе эти шутки, что все, включая меня, осознавали юмор ситуации. Я однажды тоже не удержался и заметил:
«Похоже, это превратилось у вас в спорт своего рода».
«Что именно?» – не поняла Настя.
«Ну как же: вот это ваше невинное притворство по поводу вашей якобы огромной симпатии ко мне, которым вы всё время пытаетесь вогнать меня в краску».
Тут Настя покраснела сама – да не просто покраснела! Вспыхнула как маков цвет – и без слов вышла из аудитории.
– Прямо на уроке? – ахнул автор этого текста.
– Нет, на перемене. После она дулась на меня ещё как минимум две недели.
Но это я отвлёкся. В тот вечер я передал свою просьбу, и Настя принялась шутливо отнекиваться: мол, и опыта у неё не хватает, и времени совсем нет. Я стал уговаривать, а она продолжала отнекиваться. Неизвестно, сколько бы это длилось, если бы я не решил положить этому конец и не заговорил начистоту:
«Понимаете, Настя, Владимир-Викторычу позарез надо выиграть этот грант, да любой грант, но желательно именно этот, президентский. Он получает себе тогда, образно выражаясь, медальку на китель и пересаживается в кресло замдекана или секретаря Учёного совета. А я, может быть, в его кресло. Но меня не эти честолюбивые планы волнуют, а просто мне очень нужны деньги. Я хочу сложить печь или камин в своём доме и наконец-то съехать от родителей, а то, честное слово, и смешно, и неловко: уж седина в бороде, а до сих пор у них путаюсь под ногами. И óкна до сих пор не поставил: хоть бы для первого этажа заказать окна! Видите, как всё просто?»
Настя тут замолчала и молчала, наверное, полминуты, я даже испугался, что нас рассоединили. Заговорила:
«Это всё правда, Андрей Михайлович?»
«Чистая правда, Настенька!» – уверил я её.
«Я всё сделаю, – пообещала моя аспирантка совсем другим тоном. – Если вам это нужно, я всё обязательно сделаю».
[13]
– И она действительно села за заявку в тот же день. Перезванивала мне, чтобы уточнить: какое у моей научно-популярной книги будет название?
«“Голоса перед бурей: опыт художественно-исторического исследования российского общества периода 1914-1917 годов”», – сказал я едва не первое, что пришло на ум.
«И ещё здесь спрашивают: в чём будет особенность книги и исследовательского метода?»
«Ой, Господи, Настя, да пишите первое, что в голову приходит! Там, “полифоничность изложения”, “амальгама художественного и научного подходов”, multifaceted vision of events…»
«Что это такое – малтифэситед вижн?»
«Многофасеточное видение событий, то есть как бы одного и того же – с разных ракурсов».
«А что это значит?»
«Понятия не имею! – беззаботно отозвался я. – Но звучит красиво, разве нет?»
«Но ведь… Андрей Михайлович, это же просто слова? – продолжала сомневаться Настя. – За ними ничего не стоит?»
«Открою вам тайну, Настенька: в науке пять десятых того, что пишется, – это просто слова, за которыми ничего не стоит. Или девять десятых».
«Вы, Андрей Михалыч, цинично разрушаете мою веру и лишаете меня научной невинности!» – попеняла мне моя аспирантка.
«Ну, слава Богу, что только научной!» – отшутился я. Мы, кажется, даже посмеялись.
После того её демонстративного выхода из аудитории между нами установился этот слегка насмешливый тон, которым мы оба подчёркивали, что бесконечно далеки даже от мысли о романе между преподавателем и студенткой (уже, правда, аспиранткой), настолько далеки, что даже позволяем себе над этим смеяться. Чему вы улыбаетесь и о чём думаете?
– Я… я думаю об этом забавном сочетании «вы» и «Настенька», то есть уменьшительного имени, – признался автор. – Очень в духе «Белых ночей» Достоевского.
– Правда? А что, героиню «Белых ночей» тоже звали Настей? – весело изумился Могилёв. – Представьте себе, совершенно вылетело у меня из головы!
Ах, да: ещё она спросила у меня номер моей банковской карты: в том не очень вероятном случае, если бы нашу заявку предварительно одобрили, мне должна была прийти авансовая часть вознаграждения.
[14]
Настя отправила заявку, а я, можно сказать, забыл про «Летопись Русской Смуты». Помнил краем ума, но не держал в голове. Во-первых, я не очень верил в получение гранта, во-вторых, меня моя собственная докторская, вполне настоящая, живая и конкретная, волновала больше, чем некий журавль в небе, в-третьих, я всё прикидывал, как бы мне накопить нужную на отопление сумму без сверхусилий. Написание любой многостраничной книги – это, доложу вам, сверхусилие, когда есть повседневная работа. Увы, как ни крути, денег пока не хватало. Вот, правда, если складывать камин самому, можно будет сэкономить на работе печника. Не боги ведь горшки обжигают! Но справлюсь ли? Да и пословицу о том, что скупой платит дважды, тоже никто не отменял…
Четверг был у меня «методическим днём», когда я наслаждался законным правом поспать подольше. Третьего апреля меня, однако, разбудило сообщение от банка о зачислении денег. Сумма составляла полторы моих месячных зарплаты. Сон как рукой сняло.
В электронную почту, как можно догадаться, мне уже «прилетело» письмо от оргкомитета конкурса. Моя – Настина то есть – заявка была рассмотрена и получила первичное одобрение. Девушка, похоже, постаралась. Организаторы любезно напоминали мне, что текст «Голосов перед бурей» объёмом пятнадцать авторских листов (сколько-сколько?!) мне следует представить к концу апреля.
– К концу апреля?! – изумился автор. – Послушайте, пятнадцать авторских листов – это же…
– Это шестьсот тысяч знаков, совершенно верно. Да, к концу апреля, а на календаре было уже третье!
Я, кажется, издал какое-то малоприличное восклицание. Андрей Михайлович коротко рассмеялся. Заметил:
– Вот-вот! И у меня тогда вырвалось что-то похожее.
Не теряя времени, я позвонил секретарю нашей кафедры и договорился о вечерней «аудиенции» с Бугориным.
Войдя к нему в кабинет, я сразу взял быка за рога:
«Владимир Викторович, извините, мы не договаривались так!»
«О чём мы не договаривались? – он, откинувшись на спинку кожаного кресла, глядел на меня встревоженно, но и с хитрецой. Или показалось? – Чего ты шумишь, бедовый человек?»
«Пожалуйста, вот это почитайте!» – я протянул ему распечатанное письмо от оргкомитета. Тот проглядел без особого удивления, будто наперёд знал, что там будет написано. Хмыкнул:
«Так ты выиграл грант, Андрюша! Ну, поздравляю!»
«Рано поздравляете, Владимир Викторович! Осрамимся сейчас на всю Россию! Я, а вы вместе со мной! Как я вам напишу книгу до конца апреля? Вы-то мне другие сроки называли!»
«Я?! Я называл другие сроки?! А что, может, и называл, – вдруг согласился он. – Извини, огляделся. А ты почему не прочитал положение о конкурсе?»
«Так вы же мне его не дали в руки!»
Завкафедрой развёл руками, будто дивясь моей дурости:
«Так ты ж не взял!»
О, какой нелепый разговор!
«Нет, как хочешь, Михалыч, а взялся за гуж – надо писать, – продолжал Бугорин. – “Кирпич” свой бери да переписывай простым языком».
«Кирпичом», как вы знаете, называется готовый текст диссертационного исследования. У меня, если продолжать пользоваться строительной метафорой, было к тому моменту готово только «полкирпича» докторской.
«Да нет же, нет, Владимир Викторович, никуда это не годится! – воскликнул я, даже, помнится, с каким-то надрывом. – Это же совсем другой метод, другой стиль, всё совсем другое! Это называется не “переписывай”, а “пиши заново”!»
«Ну и пиши заново, – кивнул он мне из своего начальственного кресла. – Что ты разнылся как девочка? Бери и пиши! Вон, Настюхе своей дай, она тебе твой “кирпич” перепишет, и картинки нарисует, и в лицах изобразит».
«Она такая же моя, как ваша», – буркнул я.
Не клеился разговор.
Бугорин потянулся в кресле:
«Ты что, хочешь сказать, что не будешь делать грант, который наша кафедра уже выиграла?»
«Я не вижу, когда буду это делать, вместе с аудиторными часами, кураторством, дипломниками и собственной докторской», – сухо пояснил я ему. («“Делать грант”! – отметил я про себя. – Давайте полностью растопчем всё, что осталось от русского языка, что уж там!»)
«Так ведь опозоришь, правильно сказал, меня на всю Россию! Ты что это, Михалыч, с лестницы упал? Головой ударился? Или, как его, Богу перемолился в каком-нибудь чулане со своими прошлыми этими… дружками? Ты специально, что ли, заварил кашу? Работу не сделаешь, стрелки на меня переведут, меня, значит, ногой под зад, а ты на моё место? Так ты придумал?»
Я весь поморщился:
«Фу, какая глупость! Даже говорить об этом противно».
«Что ты рожу-то кривишь? Лимон съел?» – Бугорин постепенно распалялся, то ли взаправду, то ли демонстративно. У начальников любого рода ведь полжизни проходит в театральных жестах.
«Я вам повторяю, Владимир Викторович, что я оказался в безвыходном положении! Я рассчитывал на время до конца года, а остаётся двадцать семь дней. Я… я не знаю, что делать!»
Бугорин равнодушно пожал плечами, показывая, что он тоже не знает – и не заботится об этом: сам, мол, влип, сам и выкарабкивайся. Во мне поднялось глухое раздражение. Это ведь он втащил меня в эту авантюру! Это ведь он добивается себе лишнего орденка на шею! Или уже не добивается? А что, очень может быть: высокое начальство дало задний ход, и должность секретаря Учёного совета теперь уплывает другому человеку, грант перестал быть жизненно необходимым. А я оказался крайним. Вот здорово!






