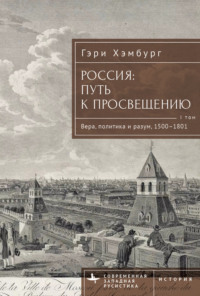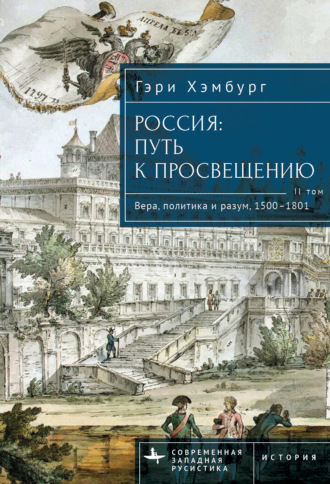
Полная версия
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Возможно, Клейн и Живов правильно поняли намерение Екатерины создать общественный дискурс, в котором этическая деятельность по формированию индивидуального поведения изначально превалировала бы над политической деятельностью по созданию лучших законов для России, но мы должны добавить три замечания. Во-первых, сосредоточившись на изменении личного поведения, Екатерина фактически переключила внимание на религию, а точнее, подчеркнула ее значение в общественном дискурсе. Подобно тому, как русская редакция ее «Наказа» начиналась с молитвы и требовала, чтобы родители обучали детей основам православия, так и «Всякая всячина» возводила нравственное воспитание в центр имперской повестки. Даже если, как полагает Клейн, понятие добродетели, транслируемое во «Всякой всячине», было шире московского православного понятия о благочестии, само использование императрицей этого термина и распространение его на новые сферы общественного поведения скорее укрепляло, чем подрывало авторитет православных наставлений. Во-вторых, утверждая, что ее главная обязанность – подавать хороший пример подданным, Екатерина вызвала к жизни прежние православные представления о долге правителя, но при этом постаралась обезопасить от их влияния свой престол, указав на то, что человеческие слабости следует исправлять мягко, беспрекословно повинуясь при этом монарху. В-третьих, поощряя существование культурной сферы, в которой писателям приходилось умещаться в рамках нравоучительного жанра, Екатерина приглашала других авторов подражать ей, но при этом волей-неволей склоняла их проверить установленные ею границы на прочность. Как мы увидим ниже, самые смелые из этих писателей сразу же попытались обойти ее мягкий «запрет» на политические дискуссии. Таким образом, своими сознательными усилиями по созданию деполитизированного пространства для обсуждения вопросов национальной культуры императрица невольно подтолкнула других писателей к попыткам явно либо тайно вернуть политику в российский дискурс.
Интерес Екатерины к русской истории, вероятно, возник еще до ее восшествия на престол. Первый том «Истории Российской империи при Петре Великом» Вольтера вышел в 1759 году, за три года до ее прихода к власти. К концу 1760-х годов Академия наук с ее одобрения опубликовала важнейшие памятники допетровской истории: Никоновскую летопись, «Русскую правду» Ярослава Мудрого, «Судебник» Ивана IV. В 1770 году вышел труд М. М. Щербатова «История российская от древнейших времен», а в 1773 году Новиков при содействии Екатерины начал издание летописей под названием «Древняя российская вивлиофика». Однако увлечение Екатерины русской историей было обусловлено не только ее личным интересом к предмету или абстрактным представлением о царском долге. В 1768 году, после публикации заметок французского путешественника, критиковавшего российский строй, Екатерина решила ответить иностранным критикам России, как прошлым, так и современным.
В путевых заметках аббат Шапп д’Отрош сообщал, что с 861 по 1598 год русскими управляла одна семья, «ценой вольности народной. Летописи и все историки изображают нам народ, управляемый деспотами» [Chappe d’Auteroche 1768, 1: 110]. В опровержение Екатерина анонимно опубликовала 300-страничное произведение «Антидот» (1770), где назвала характеристику России Шаппа д’Отроша несправедливой. Она спрашивала:
Что вы подразумеваете под этим одиозным словом «деспот», которое постоянно употребляете? Неужели вы каждого правителя России называете тираном? Но помимо неуважения к их памяти, Вы лжете… Опыт доказывает, что в течение семисот лет правительство России хорошо ей служило; страна возрастала в силе и средствах; кроме того, все это время ее подданные были довольны монархией, которая единственно может существовать в огромной империи.
Кроме того, Екатерина добавила: «До смерти царя Федора Ивановича в России царили практически такие же нравы, что и у всех других европейских народов» [Екатерина II 1901–1907, 7: 81–82]9.
Погрузившись в полемику в защиту допетровской Руси, Екатерина присоединилась к дебатам о древней и современной России, которые велись со времен выхода первого тома книги Вольтера, посвященной Петру, в которой допетровская Россия описывалась как варварская страна без законов. Как показал Ю. В. Стенник, эта дискуссия, в которой участвовали И. Н. Болтин, Щербатов и целая плеяда европейских историков, побудила Екатерину в 1783 году начать писать собственную историю России [Стенник 1997: 7–48]. Поскольку у нее не было времени для самостоятельной архивной работы, она поручила группе помощников собрать материалы для своего труда под названием «Записки касательно Российской истории». По ее замыслу, «Записки» должны были стать еще одним «противоядием негодяям, уничижающим историю России, таким как врач Леклерк и учитель Левек, оба скоты, и, не прогневайтесь, скоты скучные и гнусные» [Екатерина II 1878: 88; Стенник 1997: 18].
В «Записках» Екатерина разделила русскую историю на пять периодов: Россия до Рюрика; от Рюрика до татарского нашествия; татарское иго с 1224 по 1462 год; Россия от изгнания татар до основания династии Романовых в 1613 году; Россия с 1613 года и далее [Екатерина II 1901–1907, 8: 8]. Ее непосредственной задачей было представить древних славян цивилизованным народом. Поэтому она утверждала, что еще до пришествия Христа они были грамотными, но их письменность была утеряна. Тем не менее она признавала: «Славяне более к воинской службе прилежали, нежели к наукам и художествам» [Екатерина II 1901–1907, 8: 12]. Повествуя о князе Владимире, Екатерина пишет, что «двор его был великолепный», что он построил «города и народные здания», привлекал в Россию «ученых людей, науки, художества и храбрых богатырей отовсюду» [Екатерина II 1901–1907, 8: 75]. Такое изображение Владимира напоминало Петра Великого. Излагая историю обращения Владимира в христианство, Екатерина обратила внимание на стоявший перед ним политический выбор, на то, что «во время крещения отпаде яко чешуя от очей его, и прозрел», на его добродетели после крещения. Таким образом, Екатерина восхваляла как традиционное православное благочестие, так и политическую мудрость, то есть именно такое сочетание религии и политики, которое она преследовала в 1780-е годы [Екатерина II 1901–1907, 8: 75–83].
Повествуя о татарском нашествии, Екатерина подчеркнула, что «надлежало Князем Руским иметь любовь, мир и согласие между собою». Причиной междоусобицы она считала княжеское честолюбие и «злых льстецов», которые говорили каждый своему князю: «Тебе достоит земля Руская и Киевом владети». Эти льстецы и клеветники завели князей «к неправедным войнам и пролитию крови и погублению людей, Государству нужных» [Екатерина II 1901–1907, 10: 194]. Далее Екатерина обвиняет татар в том, что они «много зла» сотворили христианам и Русской земле: «Князей и сановитых людей изсече, православному народу тяжкое бремя наложи, младенцы от матери отымая, брачных жен разлучая от мужей, юных дев оскверняя» [Екатерина II 19011907, 10: 231]. Здесь императрица играет на патриотических, религиозных и семейных ценностях, противопоставляя православных русских неверным захватчикам. Она обращала внимание на мужество русских во время татарского ига, восхваляя, например, «христианскую твердость» великого князя Михаила Черниговского [Екатерина II 1901–1907, 10: 253]. К сожалению, Екатерина не успела завершить свою «Историю». Опубликованная рукопись обрывается после победы татар в XIII веке. До нас дошли также неопубликованные записи, в которых повествование ведется сразу после победы русских на Куликовом поле в 1380 году, но в них императрица не излагает тех уроков, которые современники должны были извлечь из ее истории.
Если считать, что целью написания «Записок» было опровержение клеветнических измышлений иностранцев о политике Древней Руси, то можно считать, что труд Екатерины удался, хотя бы отчасти: ни один здравомыслящий читатель «Записок» не подумает, что череда правителей после Рюрика состояла из одних деспотов. По другим меркам «Записки» были провальной работой. В этих размышлениях на тему истории не хватает критической оценки первоисточников; много заимствований без указания авторства из других работ по русской истории, в том числе целые пассажи из труда Татищева; повествование упорно и тяжеловесно следует за династической линией. Что хуже всего – если обратиться к книге в надежде на проникновение в суть отношений между русским народом и государством, то на каждой странице вас ждет разочарование. А поскольку рукопись заканчивается на катастрофе татарского нашествия, читатель вправе задаться вопросом, принесло ли государство народу хоть какую-либо пользу. «Записки касательно русской истории» производят впечатление громоздкого конспекта, составленного неумной комиссией под весьма рассеянным надзором императрицы. По сравнению с этой карикатурой на историческое сочинение «скоты скучные и гнусные» Леклерк и Левек смотрятся намного выгоднее.
В 1780 году Екатерина предприняла первый шаг в борьбе с масонством, которая вылилась в итоге в запрет масонских лож и арест в 1792 году Николая Новикова. Вполне вероятно, что, начиная эту кампанию, она не могла точно предвидеть, чем она завершится. Изначально она рассчитывала лишь предостеречь общественность от нелепостей, которые она усматривала в масонских практиках. Екатерина опубликовала памфлет под названием «Тайна противо-нелепаго общества, открытая не причастным оному» (1780) [Екатерина II 1780]10. В памфлете она высмеивала обряды посвящения в масонские ложи: воображаемому посвящаемому задается ряд бессмысленных вопросов, а затем зачитывается катехизис, полный несуразностей. В итоге посвящаемый говорит мастеру ложи, что «пустые и неясные слова» противоположны интеллектуальной ясности, а «двоезнаменателныя речи и злоупотребление звучных слов и выражений» приводят к ложным рассуждениям. Самым забавным моментом памфлета стало осмеяние масонских эмблем, к которым Екатерина отнесла зевающий рот с надписью: «Рот зевающий. Сие значит, что таже сказка, а особливо если она не лепа, скучна и без вкуса, конечно произведет зевоту» [Екатерина II 1893: 443–444].
Антимасонская кампания Екатерины, пока она ограничивалась остроумными памфлетами, не нарушала духа ее просветительской терпимости. Вольтер и его многочисленные подражатели исходили из того, что критика суеверий не противоречит законодательной терпимости к «суеверному» культу. Поскольку «Тайна противо-нелепаго общества» была опубликована анонимно, и за ней не стояла мощь государства, Екатерина могла бы выдать ее «всего лишь» за вклад в общественное мнение. Проблема логики Екатерины (как и умеренной просветительской доктрины о терпимости) заключалась в нечеткой грани между осмеянием «нелепых» верований и их запретом как опасных. Ведь если действительно счесть религиозные верования мерзостью, противной разуму, то рано или поздно возникнет желание ограничить их исповедание и начать преследовать верующих как «неразумных» и «опасных» для установленного порядка. Идея позитивной свободы привела Екатерину к тому, что в 17851792 годах она заставила российских масонов «делать то, что надлежит» согласно закону, то есть отбросить свои нежелательные тайные практики и распустить ложи. Запрет «общества вольных каменщиков» Екатериной, по этой логике, соответствовал «истинной свободе» масонов.
В первые годы царствования Екатерина внесла значительный вклад в развитие русской мысли. Она использовала свой политический авторитет для создания и расширения сферы общественного мнения и продвижения целого ряда идей Просвещения – от упорядоченного полицейского государства до веротерпимости. Позднее противоречия в ее представлениях о свободе и веротерпимости нашли выражение в скучном благочестии «Записок касательно русской истории» и в антимасонской кампании. Учитывая внутреннюю противоречивость ее политической мысли и ограничения на развитие просветительских идей, было неизбежно, что некоторые образованные россияне XVIII века бросят вызов ее взглядам, расширив сферу применения разделяемых ею просветительских принципов и попытавшись преодолеть или устранить противоречия в ее философии. Таким образом, Екатерина способствовала возникновению более радикального и последовательного просветительского течения в интеллектуальном пространстве общества, для создания которого она сама приложила немало усилий. В политике, как мы видим, нужно быть осторожным в своих желаниях.
Глава 9
Никита Панин и императорская власть
В 1762 году, вскоре после захвата власти Екатериной, граф Н. И. Панин (1718–1783) направил ей план по созданию Императорского государственного совета и разделению Сената на департаменты. Это предложение обещало стать самым масштабным структурным преобразованием центрального аппарата власти в России со времен петровских реформ. В течение какого-то времени Екатерина допускала возможность осуществления этого плана – вероятно, потому, что была обязана Панину за его помощь в свержении Петра III. В ее бумагах сохранился список из восьми человек, которых она предполагала ввести в состав императорского совета: «Граф Ал[ексей Петрович] Бестужев[Рюмин], граф Кир[илл Григорьевич] Разумовский, граф Мих[аил Илларионович] Воронцов, князь Яков [Петрович] Шаховской, Никита Иванович Панин, граф Захар [Григорьевич] Чернышев, князь Мих[аил] Волконский, Григорий Григорьевич Орлов». Императрица также рассматривала возможность назначить из числа этих восьми человек «первого советника», Бестужева-Рюмина11. Однако к октябрю 1763 года она решила отказаться от реализации плана Панина. Поскольку план был задуман в духе Просвещения и мог направить Россию по пути к конституционной монархии, его возникновение и окончательный отказ от него многое говорят нам о политике екатерининского времени.
Предложение Панина предполагало два существенных изменения в государственном устройстве. Во-первых, он предлагал учредить Императорский совет «в шести и до осми персонах», который собирался бы в присутствии государыни и обсуждал будущие законы. Во-вторых, он рекомендовал разделить Сенат, который был высшим судом России, но также и одним из ее важнейших органов контроля, на шесть департаментов: по внутренним политическим делам, апелляциям, коммерции, юстиции, военным делам, управлению провинциями [СИРИО 1867–1916, 7: 209–217].
Императорский совет должен был рассматривать «все дела, принадлежащия по уставам государственным и по существу монаршей самодержавной власти нашему [императрицы] собственному попечению и решению» [СИРИО 1867–1916, 7: 212]. В совет Панин предполагал включить четырех статских секретарей: иностранных дел, внутренних дел, военного департамента и морского департамента. Он также планировал включить в совет по меньшей мере двух секретарей без портфеля [СИРИО 18671916, 7: 211–212]. Четыре статских секретаря «с портфелями» должны были вести переписку с самодержицей и своевременно представлять отчеты с «точным сведением» по вопросам, находящимся в их сфере ответственности. В пределах своей компетенции статские секретари должны были выступать в качестве представителей монарха. По формулировке Панина, «…секретари должны быть нашею живою запискою рачительному государю принадлежащаго точнаго сведения о установлениях и состоянии всех вещей составляющих дела, порядок и положение государства всего, в чем каждый по своему департаменту и заимствует часть нашего собственного [монарха] попечения». Совет в целом должен был стать таким механизмом, «чтоб средством онаго сам государь мог объять все части государственныя под свое монаршее попечение для удобнейшаго в пользу общую законодательства». Императорский совет, по замыслу Панина, есть «не что иное, как то самое место, в котором мы [государыня и секретари] об империи трудимся…» [СИРИО 1867–1916, 7: 212].
Панин предложил проводить заседания Совета каждый будний день, кроме праздников. На заседаниях совета секретари должны были представлять вопросы на рассмотрение монарха, высказывать по ним свое мнение и приглашать к обсуждению других членов совета. При этом должен был вестись стенографический протокол обсуждения, подписываемый каждым участником заседания, что гарантировало бы его достоверность. Согласно статье 10 плана Панина, «всякое новое узаконение, акт, постановление, манифест, граматы и патенты, которые государи сами подписывают, должны быть контрасигнированы тем статским секретарем, по департаменту котораго то дело производилось, дабы тем публика отличать могла, которому оное департаменту принадлежит». Панин утверждал, что эта оговорка в статье 10 гарантировала, что «из сего императорскаго совета ни что исходить не может инако, как за собственноручным монаршим подписанием». В конце проекта Панин писал, что каждому статскому секретарю должна быть предоставлена «свободность» обсуждать с монархом новые императорские указы, «ежели они в исполнении своем могут касаться или утеснять наши государственные законы или народа нашего благосостояние». Согласно тексту проекта, государыня «конфирмует правом» ту самую «свободность», которую предоставил правительству Петр [СИРИО 1867–1916, 7: 214].
Представляя проект реформы Сената, Панин призывал, чтобы каждый из вновь создаваемых департаментов принимал решения в коллегии, состоящей «не меньше как из пяти сенаторов». Единогласные решения той или иной департаментской коллегии должны были «почитаться… равно как бы всем сенатом то учинено было» [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Любой важный вопрос, который не мог быть решен единогласно, передавался генерал-прокурору Сената, которому предписывалось при решении проблемы «поступать весьма осмотрительно» [СИРИО 1867–1916, 7: 216]. По замыслу Панина, обер-прокурор (глава департамента) был вправе попытаться разрешить спорный вопрос внутри департамента, однако разногласия между обер-прокурором и сенаторами или противоречия между сенаторами, оставшиеся неразрешенными после обсуждения в департаменте, должны были передаваться на обсуждение всего Сената. В этом случае генерал-прокурор имел право по своему усмотрению созвать полное собрание Сената для обсуждения и решить дело большинством голосов [СИРИО 1867–1916, 7: 215–216]. Правовые решения Сената «для всяких новых и в департаментах не трактованных еще государственных дел» должны были совершаться «по государственным уставам и в силе законов». Если же новаторские толкования полностью выходили за рамки положений действующего свода законов, то генерал-прокурор должен был доложить об этом самодержцу [СИРИО 1867–1916, 7: 216].
Таким образом, Панин предложил новое место для российского законотворчества (Императорский совет), новые процедуры принятия законов (составление проектов в ведомствах под руководством статских секретарей, официальное представление и обсуждение этих проектов в Императорском совете, подписание монархом и контрасигнирование статскими секретарями), новые процедуры рассмотрения возможных конфликтов между новыми и старыми законами («право» статских секретарей доносить государю о таких коллизиях). Панин также преобразовал сенат в орган, в котором сочеталась эффективность малых групп (коллегии из пяти человек), контроль одного администратора (генерал-прокурора или обер-прокурора) и широкое обсуждение (на пленарных заседаниях сената).
План Панина выходил далеко за рамки косметических изменений императорской бюрократии, но он не вводил разделения власти на самостоятельные ветви, как это предполагалось в работах Локка и Монтескьё, а также в «Комментариях к законам Англии» английского юриста Уильяма Блэкстона (1766–1770). Императорский совет Панина представлял собой законодательный орган, члены которого назначались монархом, заседания проходили в его присутствии, а решения не имели юридической силы, если не были подписаны государем; при этом каждый из статских секретарей совета «с портфелем» выполнял исполнительную роль в государственной бюрократии. В Сенате Панина смешивалась юридическая функция толкования законов с исполнительной функцией надзора за их исполнением. Таким образом, в Императорском совете и в Сенате исполнительные, законодательные и судебные функции скорее были намеренно смешаны, а не разделены.
Согласно проекту манифеста, представленному Паниным на подпись Екатерине, общая цель предлагаемого закона заключалась в укреплении государства, то есть в том, чтобы «непоколебимо утвердить форму и порядок, которыми, под императорскою самодержавною властию, государство навсегда управляемо быть должно» [СИРИО 1867–1916, 7: 210–211]. Как предполагалось, проект должен был обезопасить власть от людей, которые «стараются возлагать на счет собственнаго государственнаго самоизволения все то, что они таким образом ни производили» и избавить ее от пороков, «которые по временам внедривались во все течение правления» [СИРИО 1867–1916, 7: 205, 209]. Панин отмечал, что поспешно проведенные Петром реформы, несмотря на их масштабное влияние на Россию, оказались неспособны «привести к совершенству гражданское государственное установление». Преемники Петра пытались решить проблемы государства путем принятия краткосрочных мер, которые, «не получая силы прочности, переменою времен или сами упадали, или подвергались руководству припадочных и случайных людей». Панин сетовал, что при Елизавете государство управлялось «одними персонами и их изволениями без знаний и вне мест» [СИРИО 1867–1916, 7: 210].
В записке, сопровождавшей проект манифеста, Панин высказал более подробную критику существующего порядка. По его мнению, Сенат в его нынешнем составе был перегружен работой по надзору за исполнением законов. У его членов не было ни времени, ни желания помогать самодержцу в разработке законов; кроме того, законотворческая деятельность выходила за рамки его компетенции. Не обладал Сенат и компетенцией, позволяющей внести единство в государственное управление: сенаторы, как правило, полагались на мнение прокуроров и других чиновников относительно общей формы законодательной деятельности, так как по «слабости человеческой лени» не утруждали себя выработкой общего ви́дения законов. Сенаторы приезжали на заседания, «как гость на обед, который еще не знает не токмо вкусу кушанья, но и блюд, коими будет потчиван» [СИРИО 1867–1916, 7: 202–203].
Между тем предполагалось, что общую картину правового порядка должен был вырабатывать генерал-прокурор Сената, но ему было трудно справляться с ситуациями, когда сенаторы расходятся во мнениях, и их дела «подвергаются взаимному подрыву» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. Панин резко критиковал генерал-прокурора императрицы Елизаветы князя Никиту Трубецкого, который пришел к власти «по дворскому фаверу, как случайный человек… а потом сам стал быть угодником фаворитов и припадочных людей» [СИРИО 1867–1916, 7: 204]. При Елизавете, как писал Панин, из администрации исходили «сюрпризы и обманы, развращающие государственное правосудие, его уставы, его порядок и его пользу». Он утверждал, что закулисные методы управления не только обманывают народ, но и воспитывают у высокопоставленных чиновников, подобных Трубецкому, чувство, что они стоят над законом, почитая себя «неподверженным суду и ответу пред публикою, следовательно свободным от всякаго обязательства перед государем и государством, кроме исполнения» [СИРИО 1867–1916, 7: 205]. Наихудшими последствиями такой системы были разрушение доверия народа к правительству и изоляция государя от реального процесса управления страной [СИРИО 1867–1916, 7: 206]. Кабинетную систему управления, созданную при Елизавете после 1756 года для ведения войны в Европе, Панин назвал «монстром» [СИРИО 1867–1916, 7: 207]. В итоге Елизавета лишилась возможности управлять страной на ее благо и по собственному разумению. Панин обещал, что его проект «оградит самодержавную власть от скрытых иногда похитителей оныя» [СИРИО 1867–1916, 7: 208].
Панин представлял себя истинным приверженцем самодержавия, защитником системы от жадных, продажных и невежественных чиновников, которые с 1730 года вели правительство по ложному пути, прикрываясь своей верностью государыне. Если его целью была более добродетельная, более эффективная, более информированная администрация, а значит, более справедливая и более стабильная монархия, то его политическое ви́дение во многом совпадало с ви́дением Екатерины. Однако в проекте манифеста Панина и в сопроводительной записке были разбросаны идеи, которые указывали в другом направлении.
Во-первых, прикрываясь защитой самодержавия, Панин, казалось, критиковал все аспекты его деятельности на протяжении последних трех четвертей века. По мнению Панина, Петр I реформировал московскую политическую систему поспешно, не заложив прочной основы. Результатом стал хаос в высшем руководстве, череда фаворитов и «случайных людей» на руководящих постах, а также потенциальная дестабилизация всей страны. Во-вторых, Панин, по-видимому, с подозрением относился к самой логике самодержавного правления, по которой огромным государством управляет один человек. Когда Панин критиковал сенатских прокуроров за незнание законов и недальновидность, когда он нападал на произвол и коррумпированность высших чиновников, он исходил из подверженности любого руководящего лица ошибкам: один человек не может знать всего, и любой склонен к произволу и пороку при отсутствии контроля со стороны другой власти.