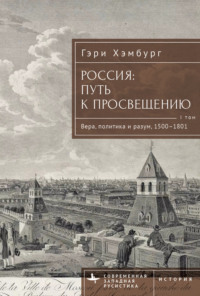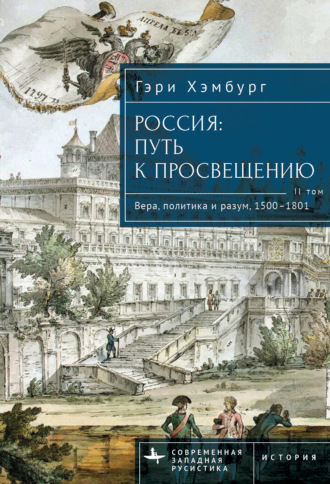
Полная версия
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Таким образом, концепция Екатерины о свободе в обществе сводилась к декларации того, что свобода заключается в послушании совести (возможности делать то, что должно) в рамках позитивного права (права делать все, что позволяют законы). Она считала, что все должны подчиняться законам в равной степени («и если бы где какой гражданин мог делать законами запрещаемое, там бы уже вольности не было»), но не утверждала, что все люди должны быть равны в привилегиях. Более того, в условиях общества, где царило крепостное право, она не осмелилась говорить о юридическом равенстве в этом смысле. Ее отождествление свободы с безопасностью означало либо намек о свободе от произвола властей, либо утверждение, что только сильное правительство и сильные законы позволяют гражданам в полной мере наслаждаться свободой. Первые статьи «Наказа» оставляют общее впечатление, что Екатерина придерживается дирижистской концепции свободы, которую Исайя Берлин назвал бы «позитивной свободой», при которой правительство направляет граждан «к получению самаго большого ото всех добра», подданные вольны «делать то, что каждому надлежит хотеть» по совести, во славу «граждан, государства и Государя». Екатерина не перечисляет права отдельных подданных, ограничиваясь упоминанием «права» делать то, что разрешено законами.
Главу 6 (статьи 41–63) Екатерина посвятила «законам вообще». Здесь она усилила ранее высказанные замечания о вольности и попыталась объяснить соотношение между обычаями и государственными законами. Из статей 41 и 42 следовало, что государственные законы не должны запрещать ничего, «кроме того, что может быть вредно или каждому особенно, или всему обществу». Таким образом, личные поступки, не затрагивающие ни других людей, ни государство, не подпадают под действие законов. Екатерина не охарактеризовала эту сферу «безразличных действий» как относящуюся к частной жизни или составляющую «права» индивидов. Тем не менее ее комментарии, которые в данном случае во многом повторяют Монтескьё, дают общее представление о «негативной свободе» [Екатерина II 1907б: 8–9]. По поводу обычаев Екатерина утверждала, что для управления государством необходимы законы, подлежащие исполнению, поэтому при разработке законов законодатель должен принимать во внимание нравы народа. Однако она не считала обычаи непреодолимым препятствием для законодательных изменений: «И так когда надобно сделать перемену в народе великую к великому онаго добру, надлежит законами то исправлять, что учреждено законами, и то переменять обычаями, что обычаями введено. Весьма худая та политика, которая переделывает то законами, что надлежит переменять обычаями» [Екатерина II 1907б: 8–9]. Главное для законодателя – «умы людские… приуготовить» к введению новых законов. Позиция Екатерины, согласно которой реформы требовали тщательной подготовки, содержала в себе косвенную критику Петра I, чьи реформы проводились поспешно, без подготовки к ним людей. Екатерина, напротив, хотела предстать правительницей, действующей в мудром и умеренном духе Монтескьё, – ведь ее «Наказ» предназначался именно для того, чтобы подготовить умы россиян к принятию нового свода законов. Однако трудно сказать, насколько серьезно Екатерина относилась к известному изречению Монтескьё о том, что к законам можно «прикасаться только дрожащими руками». Рука Екатерины не дрогнула.
Сразу после обсуждения необходимости реформ в «Наказе» был поднят вопрос о наказаниях за нарушение законов. По мнению императрицы, при проведении реформ можно было ожидать сопротивления снизу в виде нарушения новых законов. Это сопротивление, которое таковым нигде не названо, она надеялась сдержать законодательно установленными наказаниями. В статьях 61–96 рассматривалась идеальная система наказаний. Основное положение «Наказа» заключалось в том, что наказание не должно произвольно назначаться ни государем, ни судом, а должно «происходить… от самой вещи», то есть из характера данного преступления. Любое наказание, назначенное не по необходимости, по определению является «тиранским» [Екатерина II 1907б: 14].
Согласно «Наказу», существует четыре вида преступлений: преступления против веры; преступления против нравов; преступления против общественного спокойствия; преступления против безопасности личности. Дела по преступлениям против веры (например, богохульство), как считала Екатерина, должны решаться церковью путем отлучения или изгнания преступников из храмов. Здесь она вслед за Монтескьё пыталась разделить церковь и государство. В статье 74, посвященной религиозным преступлениям, императрица прибегает к ухищрениям, не упоминая ни многоконфессиональный характер Российской империи, ни принцип веротерпимости [Екатерина II 1907б: 14]. За преступления против нравов Екатерина назначает наказания преимущественно морального характера: всенародное бесчестие, стыд, изгнание из города и общества. Единственным материальным наказанием здесь были денежные штрафы, но осталось неясным, должны ли эти штрафы налагаться частными обществами или государством. По общему правилу, «преступления» против нравов должны были рассматриваться как незначительные нарушения обычаев, не имеющих юридической силы [Екатерина II 1907б: 16].
Преступления против общественного спокойствия, однако, подпадали под несомненную юрисдикцию государства. Наказания за такие преступления – «ссылка, исправления и другия наказания, которыя безпокойных людей возвращают на путь правый, и приводят паки в порядок установленный» [Екатерина II 1907б: 17]. Екатерина полагала, что преступления против безопасности личности являются серьезными, поскольку они посягают на саму основу социального порядка, то есть наносят ущерб тем людям, которым государство призвано обеспечить «самое большое добро». По мнению Екатерины, наказание за подобное преступление должно быть зеркальным по отношению к самому преступлению. Если один человек нарушил покой другого, тогда преступника следует самого лишить покоя, то есть посадить его в тюрьму. Если один человек крадет у другого, то его следует лишить имущества. В целом, по мнению Екатерины, преступление против собственности не заслуживает смертной казни, а требует наказания «из свойства вещи», то есть конфискации имущества злоумышленника либо телесного наказания, если у преступника не было собственности [Екатерина II 1907б: 17–18]. Екатерина колебалась по поводу логического следствия из ее теории зеркального наказания: если злоумышленник убивает монаршего подданного, он тем самым сам лишается права на жизнь.
В хорошо устроенном государстве, как говорилось в «Наказе», законы должны быть направлены скорее на исправление пороков, чем на наказание преступников, но когда наказание злоумышленников становится неизбежным, законом следует предписывать скорее мягкие наказания, чем суровые. «Последуим природе давшей человеку стыд вместо бича, и пускай самая большая часть наказания будет безчестие в претерпении наказания заключающееся» [Екатерина II 1907б: 20]. Статья 87 гласила: «Не надобно вести людей путями самыми крайними; надлежит с бережливостию употреблять средства естеством нам подаваемыя для препровождения оных к намереваемому концу» [Екатерина II 1907б: 20]. Согласно статье 96, эта аксиома исключает применение пыток: «Все наказания, которыми тело человеческое изуродовать можно, до́лжно отменить» [Екатерина II 1907б: 23]. Призыв к запрету пыток подкреплен статьей 123, в которой указано, что «употребление пытки противно здравому человеческому разсуждению». Екатерина пишет, что «само человечество вопиет против оныя, и требует, чтоб она была вовсе уничтожена» [Екатерина II 1907б: 30, 56–61]5. «Наказ» разрешал законодателю предусмотреть тюремное заключение для граждан, подозреваемых в пособничестве иноземным врагам, но только в случае выявления тайного заговора, опасного для государства или государя, и только при условии, что заключение носит временный характер [Екатерина II 1907б: 33].
Поскольку «Наказом» предусматривалось существенное сокращение полномочий судов по применению телесных пыток и других жестоких наказаний к подданным империи, намерения Екатерины выглядят гуманными и просвещенными, особенно по тогдашним российским меркам. Обсуждение наказаний в «Наказе» может служить одним из примеров программы Екатерины по «приуготовлению умов» к фундаментальному изменению уставного законодательства, а возможно, и к трансформации народных нравов. Безусловно, она заслужила похвалу за прекрасные чувства, и все же историк не может не заметить, что менее чем через десять лет, при подавлении Пугачевского восстания, она и ее приближенные без колебаний применяли к бунтовщикам самые страшные меры, включая телесные увечья. Императрица, которая в 1767 году надменно предстала перед Европой сияющим «маяком», в 1773–1774 году погрузилась в нравственное помрачение.
Глава 11 (статьи 250–263) посвящена обоснованию необходимости социальной иерархии и поднимает проблему крепостного права. Екатерина оправдывает социальную иерархию, отмечая: «Гражданское общество, как и всякая вещь, требует известнаго порядка. Надлежит тут быть одним, которые правят и повелевают, а другим, которые повинуются» [Екатерина II 1907б: 74]. Однако, в соответствии с естественным правом, правителю подобает «состояние сих подвластных облегчать, сколько здравое разсуждение дозволяет». Следует «избегать случаев, чтобы не приводить людей в неволю», и следить за тем, чтобы «законы гражданские с одной стороны злоупотребление рабства отвращали, а с другой стороны предостерегали бы опасности могущия оттуда произойти». Екатерина упоминает закон Петра I от 1722 года о наложении опеки на жестоких владельцев крепостных и задается вопросом, почему этот закон остается без исполнения [Екатерина II 1907б: 74–75]. В статье 260 она предупреждает: «Не должно вдруг и чрез узаконение общее делать великаго числа освобожденных». Также она выражает опасения по поводу восстания крепостных: «При чем однако же весьма нужно, чтобы предупреждены были те причины, кои столь часто привели в непослушание рабов против господ своих» [Екатерина II 1907б: 76]. Эти статьи «Наказа» положили начало длительному обсуждению вопроса о крепостном праве в Уложенной комиссии и привели к появлению в периодической печати многочисленных статей о жестоком обращении с крепостными, причем практически все авторы согласились с обоснованием социальной иерархии, предложенным императрицей.
В главах 15 (статьи 358–375) и 16 (статьи 376–383) раскрывается отношение Екатерины к дворянству и городскому купечеству. Учитывая значение дворянства в политической теории Монтескьё, на первый взгляд удивительно, как мало внимания Екатерина уделила этой группе. Однако ее относительное невнимание вполне объяснимо с учетом ее представления о самодержавном правлении, при котором вся власть принадлежит государю [Екатерина II 1907б: 105–110]. Хотя купечеству как таковому Екатерина посвятила всего восемь статей, в главах 12 (статьи 264292) и 13 (статьи 293–346) она подчеркнула значение торговли для процветающего, упорядоченного государства. Важнейшими факторами развития России она сочла процветающее сельское хозяйство (а значит, и здоровье крестьянства) и размах торговой деятельности (а значит, и предприимчивое купечество).
Учитывая репутацию Екатерины как последовательницы философов, она уделила довольно мало внимания вопросам образования. Этой теме посвящена лишь короткая глава 14 (статьи 347–355). Екатерина сразу признала, что «невозможно дать общаго воспитания многочисленному народу, и вскормить всех детей в нарочно для того учрежденных домах» [Екатерина II 1907б: 103]. Воспитание она предлагала возложить в основном на семью и ограничить его простыми нравственными правилами. В «Наказе» говорилось: «Всякий обязан учить детей своих страха Божия как начала всякаго целомудрия, и вселять в них все те должности, которых Бог от нас требует в десятословии своем, и православная наша восточная греческая вера во правилах и прочих своих преданиях». Помимо преподания детям этих общих наставлений, главы семейств должны были «вперяти в них любовь к отечеству, и повадить их иметь почтение к установленным гражданским законам, и почитать правительства своего отечества» [Екатерина II 1907б: 103–104].
Если не читать «Наказ» далее, можно было бы подумать, что императрица забыла о многоконфессиональном населении России, но в главе 20 она внезапно обращается к этому факту общественной жизни. В статье 494 Россия описывается как обширная империя, где живут разнообразные народы, и поэтому «весьма бы вредный для спокойствия и безопасности своих граждан был порок, запрещение или недозволение их различных вер». «Наказ» предостерегал от религиозных преследований, которые только раздражают верующих, тогда как «…дозволение верить по своему закону умягчает и самыя жестоковыйныя сердца, и отводит их от заматерелаго упорства, утушая споры их противные тишине Государства и соединению граждан» [Екатерина II 1907б: 134]. Однако, как можно было догадаться, Екатерина не ставила своей целью бесконечное существование этого религиозного многообразия. Она заявила: «И нет подлинно инаго средства кроме разумнаго иных законов дозволения, православною нашею верою и политикою неотвергаемаго, которым бы можно всех сих заблуждших овец паки привести к истинному верных стаду» [Екатерина II 1907б: 134]. Екатерина не пытается примирить свою систему воспитания, основанную на Десяти заповедях и православии, с наличием в России бесчисленного количества семей, которые не были ни православными, ни даже христианами.
В конце «Наказа» звучит нотка императорской скромности. Невзирая на уверения льстецов, что народы созданы для своих государей, Екатерина заявляет:
Однако ж МЫ думаем и за славу Себе вменяем сказать, что МЫ сотворены для НАШЕГО народа… Ибо, Боже сохрани, чтобы после окончания сего законодательства был какой народ больше справедлив, и следовательно больше процветающ на земли: намерение законов НАШИХ было бы не исполнено: несчастие, до котораго Я дожить не желаю [Екатерина II 1907б: 141].
Хотя «Наказ», безусловно, не был оригинальным произведением политической философии, сама его зависимость от Монтескьё и Беккариа помещала его в разряд политических произведений, принадлежащих к умеренному направлению Просвещения. К этому направлению относились и защита Екатериной монархии, и обоснование социальной иерархии, и поддержка торговли, а также ее противостояние религиозной нетерпимости. Неудивительно, что Вольтер, прочитав «Наказ», воскликнул: «Ликург и Солон, верно, утвердили бы Ваше сочинение своеручным подписанием, но, может быть, сами не в состоянии были бы написать подобного. Ясность, определенность, справедливость, твердость и человечность суть качества оного» [Stroev 2006: 76, 78]. Взгляды Екатерины на свободу, однако, составляли набор двусмысленностей. Склонность к пониманию свободы как возможности делать то, что до́лжно, по принуждению государства и в рамках законов характеризовала ее как дирижиста в ряду властных европейских монархов, преобладавших в XVIII веке. Однако она допускала свободу действий в вопросах, не относящихся к закону, и тем самым – существование ограниченной частной сферы. Она также была готова мириться с существованием неправославных религиозных общин, по крайней мере временно, и исключить, хотя бы в принципе, применение пыток в качестве инструмента следствия. Это были шаги к мирному религиозному плюрализму и к неприемлемости телесных наказаний, которые были свойственны европейской мысли середины XVIII века.
Представления Екатерины о религии, образовании и крепостном праве были обусловлены российскими обстоятельствами. Как и подобает православной государыне, «Наказ» она начала с молитвы, ссылалась на христианский закон как на руководство и поместила в основу своей программы домашнего воспитания православие. Хотя идея веротерпимости была заимствована ею с Запада, она также коренилась в русской традиции и в российских реалиях. Можно утверждать, что ее попытка примирить православную церковь с многоконфессиональностью иллюстрирует собой противоречия в управлении внутренне разнообразной империей. Ее отношение к крепостному праву также было противоречивым: признание экономических выгод крепостного права уживалось со страхом перед его последствиями; человеколюбивая забота о крепостных соседствовала с желанием установить социальный порядок и иерархию. В сложившихся обстоятельствах Екатерина полагала, что ей не удастся сделать ничего лучшего, кроме как препятствовать распространению крепостного права и выступить против связанных с ним злоупотреблений, если, конечно, Уложенная комиссия не примет решение о его отмене. Отношение Екатерины к решению проблемы крепостного права было вынужденно циничным. Вольтер мог счесть ее позицию «человечной», но эта человечность не простиралась дальше указа Петра I о недопустимости жестокого обращения с крепостными.
Русскоязычная версия «Наказа» вызвала необычайный интерес внутри страны. Как пишет Чечулин, за время правления императрицы «Наказ» переиздавался восемь раз. На заседаниях Уложенной комиссии в начале каждого месяца он прочитывался целиком. В 1767 году его копии были разосланы в разные присутственные места. В 1768 году Сенат предписал, чтобы Наказ в учреждениях прочитывался «по крайней мере по три раза в год» [Чечулин 1907: CXLVI]. Опубликовав переработанную французскую редакцию «Наказа», императрица распорядилась распространить ее за границей. Она также приказала сделать официальные переводы на латинский, немецкий и английский языки. В 1770 году правительство выпустило издание «Наказа» на четырех языках: русском, латинском, французском и немецком, причем русский и латинский тексты были напечатаны параллельными колонками; немецкий и французский тексты также располагались рядом. Таким образом, «Наказу» была гарантирована широкая известность на родине и за рубежом. Вероятно, ни один российский государственный документ XVIII века не привлекал такого внимания.
Наиболее развернутым комментарием к тексту Екатерины стали «Замечания на Наказ Ее Императорского Величества депутатам Комиссии по составлению законов» (1774) французского философа Дени Дидро. В «Замечаниях» Дидро отстаивал принципы суверенитета нации и народа как истинного законодателя, выборности на всенародной основе представителей народа для принятии законов, а также разделения ветвей власти. Поэтому он отвергал как деспотию, так и «чистую монархию» как негодные формы правления [Дидро 1947: 418–419]. Как справедливо отмечает де Мадарьяга, Дидро расходился с Екатериной и Монтескьё в оценке роли географических и исторических обстоятельств в создании законов: если Екатерина и Монтескьё склонны были рассматривать правовые кодексы как зависящие в определенной степени от местных условий, то Дидро считал, что основополагающие законы вытекают из природы человека, а потому универсальны. Он проводил различие между рабами и свободными людьми, которые отлились от рабов лишь «неприкосновенностью некоторых привилегий, принадлежащих человеку как таковому, каждому классу граждан и каждому гражданину как члену общества» [Дидро 1947: 429].
Дидро не доверял самодержавной власти при отсутствии органов, способных противостоять политике монархов; он вообще мало верил в «промежуточные органы» Монтескьё, которые должны были предотвратить превращение монархии в деспотию. Дидро отмечал, что французский парламент оказался не в состоянии противостоять напору монарха, в России же сенат «ничего не значит» [Дидро 1947: 432].
Дидро отстаивал равенство граждан перед законом, а также подчеркивал значение частной собственности. Однако защита прав собственников у него не распространялась на право владеть крепостными. Он считал российское крепостное право разновидностью рабства, которое противоречит естественному закону, и призывал Екатерину отменить крепостное право. Кроме того, как отмечает де Мадарьяга, в своих «Замечаниях» Дидро ниспроверг попытку Екатерины представить себя православной монархиней, которая поощряет как христианское воспитание, так и религиозную терпимость. Христианство, с точки зрения Дидро, «соткано из нелепостей», а духовенство «стремится к укреплению невежества» [Дидро 1947: 421]. Поэтому упование императрицы на Бога и Церковь представлялось ему ошибочным. В целом в «Замечаниях» Дидро занял пессимистическую позицию в отношении проекта Екатерины сделать Россию цивилизованной страной с помощью нового свода законов. Он писал: «Попытка цивилизовать сразу столь огромную страну представляется мне проектом, превышающим человеческие силы» [Дидро 1947: 424].
С одной стороны, его резкая критика «Наказа» указывает на разделительную линию между умеренным подходом к политике, сформулированным Монтескьё, и более радикальным, который провозглашали Дидро, Руссо и прочие: умеренные философы не так пронзительно, как Дидро и Руссо, говорили о естественном праве, о непреложных правах человека и власти народа. Однако, как ни странно, по сравнению со сторонниками радикальных политических взглядов из числа мыслителей Просвещения Монтескьё был более оптимистичен в отношении действенности масштабных политических реформ. Среди последователей Монтескьё Екатерина была, пожалуй, самым рьяным поборником политических изменений сверху. Как ни странно, она была одновременно и политически «умеренной», и утописткой.
Среди русских отзывов на опубликованную редакцию «Наказа» выделяются два: первый принадлежит историку М. М. Щербатову, второй – драматургу А. П. Сумарокову.
В 1774 году в работе, написанной «в стол», Щербатов раскритиковал «Наказ» Екатерины за присвоение полноты суверенной власти в России монарху. Он приписывает императрице желание управлять Россией на деспотический манер, прикрываясь, как «маской», Сенатом, которому придана роль «хранилища законов». Доказывая непригодность Сената к функции «промежуточного органа», ограничивающего власть императрицы, он указал на политическую зависимость Сената, сознательно сконструированную Петром I, и на то, что сенаторы не просвещены и лишены мужества. Щербатов не усмотрел в «Наказе» императрицы реального проекта разделения властей в российском правительстве [Щербатов 2010а: 51–60]. В остальном к идеям Екатерины о правовом государстве он отнесся неоднозначно. Он одобрил предложения Екатерины об отмене пыток подследственных и о мерах по искоренению взяточничества среди судей. Он поддержал право обвиняемых на суд присяжных и создание корпуса общественных адвокатов для защиты дел неимущих. Он высказался против жестоких и чрезвычайных наказаний, увечащих преступников, но отверг план Екатерины по отмене смертной казни [Щербатов 2010а: 71–77; Madariaga 1998b: 233–254].
Между тем Щербатов, по-видимому, одобрил стремление Екатерины сочетать поддержку православной церкви с веротерпимостью. Он согласился с данной Екатериной оценкой христианского нравственного учения как совершенного. По его мнению, «и другие веры дают правила нравственных добродетелей, но один христианский закон научает нас любить врагов наших» [Щербатов 2010а: 51]. Хотя в принципе Щербатов признавал, что нравственные законы должны быть везде одинаковы, он допускал, что законодательные кодексы должны различаться в зависимости от народных обычаев, климатических различий и местных политических условий. Щербатов считал возможным, чтобы российская монархия управляла империей в согласии с православной церковью, но только при условии, что церковь примет просвещенный взгляд на религию. Он весьма скептически относился к способности ислама усвоить просвещенное мировоззрение [Щербатов 2010а: 54]. С другой стороны, он решительно выступил против инквизиторского подхода к христианской религии как к орудию искоренения нравственной порчи. Он отверг проект по инженерии человеческих душ, к которому, как казалось, готова была приступить Екатерина, спросив: «Но уже через 5 лет по издании сего Наказа старались ли истребить пороки и ободрить добродетели? Поправились ли наши нравы?» [Щербатов 2010а: 66–67].
Щербатов согласен с отказом Екатерины от немедленного широкомасштабного освобождения крепостных крестьян, но, подобно ей, не исключает принципиальной возможности освобождения крестьян в перспективе. Однако, в отличие от императрицы, он счел ошибочным предоставление крестьянам права собственности при отсутствии гражданских свобод. Он опасался, что в существующих условиях право собственности крестьян на движимое имущество взрастит в них желание владеть господскими землями, а значит, вызовет дух бунтовщичества против помещиков. Щербатов утверждает, что в настоящее время крестьяне считают себя полноправными владельцами тех участков, которые они обрабатывают на благо своей семьи. Он выступил против того, чтобы разочаровывать крестьян в этом убеждении, поскольку, открыв перед ними отсутствие у них права на эти участки, можно побудить их к восстанию против своего порабощенного состояния. Согласно обвинению, выдвинутому де Мадарьяга, Щербатов считает, что «общественный порядок основан на том, чтобы обмануть крестьянина, заставив его поверить, что земля у него в собственности, хотя это не так». Щербатов в этой убежденности, по мнению де Мадарьяга, «ставит, пусть и подсознательно, личную выгоду выше принципа и государственной безопасности» [Madariaga 1998b: 255–256]. Здесь де Мадарьяга неверно поняла Щербатова, чьи замечания о чувстве собственности крестьян в отношении семейных наделов, возможно, с точностью отражали народные воззрения, хотя и не соответствовали правовой ситуации (то есть тому, что собственность на землю была у господ, в том числе на те участки, которые крестьяне обрабатывали для пропитания своих семей).