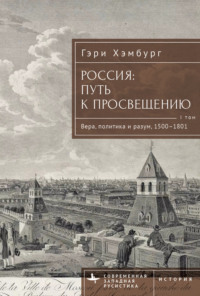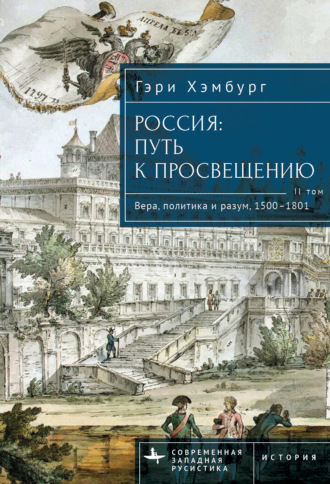
Полная версия
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Главное противоречие в политических взглядах Фонвизина и в его отношении к Просвещению – одновременное влечение к французской мысли и обеспокоенность по поводу ее секулярного характера – проявилось в «Бригадире» не только в злобном высмеивании галломании, но и в его письмах из Франции в 1777–1778 годов. Эти письма, распространявшиеся в рукописях среди друзей и близких Фонвизина, представляли собой самый свежий, самый глубокий критический анализ французской жизни, написанный русским человеком до 1789 года. В них шла речь о социальных проблемах, которые уже угрожали существованию французской монархии, и понимался вопрос о том, мудро ли себя ведут русские, подражающие французской культуре, лежащей в основе французского государства. Конечно, Фонвизин был не единственным русским писателем, испытывавшим опасения по поводу французской культуры и влияния французского мышления на русскую жизнь. Вопрос о культурной автономии страны стал важнейшим и для двух великих историков эпохи, М. М. Щербатова и Н. М. Карамзина, но Фонвизин, возможно, яснее, чем кто-либо другой в его время, понимал опасность культурной зависимости.
Ум моралиста
Фонвизин родился в Москве в семье относительно зажиточного дворянина, имевшего «не более пятисот душ» [Фонвизин 1959, 2: 83]. Его отец, Иван Андреевич, служивший в ревизион-коллегии, был старомодным христианином, не брал взяток, отвергал дуэли как средство решения личных споров и гордился строгим соблюдением писаных законов. Иван Андреевич не знал иностранных языков, но, по воспоминаниям Д. Фонвизина, «любил отменно древнюю и римскую историю, мнения Цицероновы и прочие хорошие переводы нравоучительных книг» [Фонвизин 1959, 2: 82]. Иван Андреевич учил сына, заставляя читать «церковные книги» и объяснял незнакомые слова [Фонвизин 1959, 2: 87]. Мать Фонвизина, Екатерина Васильевна (урожденная Дмитриева-Мамонова), «имела разум тонкий и душевными очами видела далеко». Фонвизин писал о ней: «жена была добродетельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная» [Фонвизин 1959, 2: 84]. Как и Иван Андреевич, она была благочестивой православной христианкой. По праздникам местный священник служил в доме Фонвизиных всенощную [Фонвизин 1959, 2: 87]. Члены семьи также регулярно читали вместе Священное Писание и слушали пересказ библейских историй. Фонвизин вспоминал, как его в детстве до слез растрогала история Иосифа в пересказе отца [Фонвизин 1959, 2: 86].
В 1755 году, в возрасте 10 или 11 лет, Фонвизин поступил в латинскую гимназию для дворян при Московском университете. Там он изучал языки (латинский, немецкий и, неофициально, французский), географию, математику, риторику и философию. В автобиографическом отрывке, написанном в конце 1780-х годов, он довольно критически отзывался о своих учителях: учитель латыни был «пример злонравия, пьянства и всех подлых пороков» [Фонвизин 1959, 2: 91]; учитель немецкого языка был «тупее прежнего, латинского» [Фонвизин 1959, 2: 88]; учитель арифметики «пил смертную чашу» [Фонвизин 1959, 2: 91]. Однако Фонвизин был в восхищении от учителя риторики Н. Н. Поповского, переводчика «Опыта о человеке» Александра Поупа (издан в 1732–1734 годах). Фонвизин «высоко почитал» сочинение Поупа, а его перевод был ему «очень знаком» [Фонвизин 1959, 2: 104].
Произведение Поупа, вероятно, познакомило Фонвизина с представлениями западных просветителей о божественной упорядоченности Вселенной, действующей по неизбежным естественным законам, и с вытекающей отсюда идеей о том, что человеческое понимание добра и зла в какой-то степени является продуктом нашего ограниченного постижения божественного замысла19. Литературовед К. В. Пигарев высказал предположение, что на Фонвизина оказали влияние и представления Поповского об общественном устройстве. Он утверждает, что такие идеи Поповского, как защита добродетели, похвала родителям, воспитывающим детей в «строгости обычаев святых», объясняющим, «хвально что, бесчестно», сетование, что «…в наш несчастный век проклятые пороки / Взошли на самый верх…», стали темами сочинений Фонвизина [Пигарев 1954: 43–44]20.
Первое знакомство Фонвизина с театром произошло, возможно, в 1757 году (дата спорная) в университетском театре в Москве, где ему довелось увидеть пьесу Людвига Хольберга21. Сам Фонвизин утверждал, что впервые в жизни он был в театре в Петербурге в январе 1760 года, когда посмотрел пьесу Хольберга «Хенрик и Пернилла» (1724–1726) с элементами комедии дель арте [Фонвизин 1959, 2: 92–93]. Благодаря Хольбергу Фонвизин познакомился с некоторыми приемами комического жанра, такими как социальная инверсия, развитие «недоразумений» между архетипическими персонажами, столкновение противоборствующих этических воззрений в нелепых социальных коммуникациях.
Моралистика была источником комического гения Хольберга и также стала элементом будущей драматургии Фонвизина. В 1761–1765 годах Фонвизин перевел и опубликовал 225 «Басней нравоучительных» Хольберга [Фонвизин 1959, 1: 263–411]. Переводя «Басни», Фонвизин научился сокращать и упрощать повествование и выводить нравоучение из отношений персонажей, изображенных в общих чертах.
Басни Хольберга принадлежали к жанру философского повествования о добродетели. Например, в басне 183 («Пан делает учреждение») животные, а значит, и люди классифицируются по степени полезности. Так, к высшему классу животных отнесены пчелы и шелкопряды, потому что «они не только великие художники, но и великую приносят пользу»; животные второго класса (верблюды и ослы) прилежно трудятся; животные третьего класса (петухи и собаки) «несколько полезны»; животные четвертого класса (муравьи, пауки) могут похвастаться искусностью в устройстве дома; животные низшего класса (львы, тигры, волки, мыши) «проводят жизнь свою или совсем бесполезно, или еще и вредно» [Фонвизин 1959, 1: 387–389]. Не требуется особых усилий, чтобы увидеть в этой басне элементы социальной инверсии, направленной против традиционной социальной иерархии: хищные животные, находящиеся на вершине пищевой цепочки, такие как лев («царь леса»), отнесены к низшему классу «рационального» социального устройства. В басне 60 («Лисицыно нравоучение») Хольберг обличает лицемерие придворных, живущих по таким правилам, как «Ни в чем правды не держись, когда желаешь найти в свете свое счастие» или «Не говори того, о чем мыслишь, и старайся, чтоб всегда сердце с языком было несогласно» [Фонвизин 1959, 1: 306–308]. Хольберг, однако, был реалистом и понимал, что мир не всегда вознаграждает за добродетель. В басне 2 («Крестьянин и собака») показана человеческая неблагодарность и вероломство по отношению к добродетельным людям [Фонвизин 1959, 1: 263–264]. Читая эту басню сегодня, можно вспомнить определение человека у Достоевского в «Записках из подполья» как «существа на двух ногах и неблагодарного». Басня 100 («Суд между правдой и ложью») говорит о том, что человек предпочитает ложь правде [Фонвизин 1959, 1: 331]. В басне 49 («Превращение юстиции») утверждается, что мир считает «юстицией» то, что является лишь испорченным подобием истинного правосудия [Фонвизин 1959, 1: 299–300]. А в басне 177 («Козел ищет правосудия») отмечается, что для простых людей подлинное правосудие недостижимо [Фонвизин 1959, 1: 384].
Хольберг высмеивал плачевное состояние истории, которая в басне 73 («Судьба истории») вместо того, чтобы обличать своевольных королей и заблудших придворных, стала опорой существующего общественного строя, [Фонвизин 1959, 1: 316]. Не щадит он и «суеверные» религиозные обряды, и жреческую касту, увековечивающую суеверия. В басне 114 («Юпитер посещает лес») критикуются религии, основанные на жертвоприношениях и бормотании молитв, и восхваляются те, что опираются на спокойный, полезный труд [Фонвизин 1959, 1: 342–343]. В басне 87 («Об осле, который проглотил месяц») Хольберг сожалеет, что реально существующий мир предпочитает суеверие разуму [Фонвизин 1959, 1: 324].
Стоит ли говорить, что мир двуличия, неправосудия, неблагодарности, лицемерия и суеверия, который описывал Хольберг, был также и миром Фонвизина в начале 1760-х годов. И потому ворчливая моралистика Хольберга стала одной из составляющих будущих комедий Фонвизина.
После окончания Московского университета в 1762 году Фонвизин вступил в период религиозных сомнений, продолжавшихся до конца 1769 – начала 1770 года. Об этом нам известно из его «Чистосердечного признания в делах моих и поступках» – покаянной автобиографии, написанной в конце 1780-х годов в противовес «Исповеди» Руссо [Фонвизин 1959, 2: 81–105]. В «Чистосердечном признании» Фонвизин вспоминал:
…в то же самое время [около 1762–1763 годов] вошел в общество, о коем я доныне без ужаса вспомнить не могу. Ибо лучшее препровождение времени состояло в богохулии и кощунстве. В первом не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль, ибо всего легче шутить над святыней и обращать в смех то, что должно быть почтенно [Фонвизин 1959, 1: 95].
Хотя он и не назвал имен членов кружка «безбожников», к которому принадлежал, историки считают, что его возглавлял Ф. А. Козловский. Возможно, Фонвизин познакомился с Козловским в Москве, где оба были студентами университета, но из писем Фонвизина лета 1763 года известно, что оба мыслителя встречались в Санкт-Петербурге [Фонвизин 1959, 2: 319–320]. Козловский был незначительным писателем: его единственной сохранившейся оригинальной публикацией было стихотворение по мотивам пьесы Сумарокова «Синав и Трувор»22. Однако он страстно пропагандировал вольтеровскую критику религии и перевел несколько статей из «Энциклопедии» Дидро [Рассадин 2008: 82–83].
В период критического отношения к религии Фонвизин опубликовал два примечательных произведения: стихотворение «Послание к слугам моим» (написано в начале 1760-х годов, опубликовано в 1769 году), с подзаголовком «Шумилову, Ваньке и Петрушке», и перевод пьесы Вольтера «Альзира, или американцы» (1736).
В «Послании слугам» Фонвизин ставит вопросы: «…на что сей создан свет?.. Боишься Бога ты, боишься сатаны, / Скажи, прошу тебя, на что мы созданы?» Шумилов, «дядька» и наставник Фонвизина, отвечает:
…не знаю я того,Мы созданы на свет и кем и для чего.Я знаю то, что нам быть должно век слугамиИ век работать нам руками и ногами;Что должен я смотреть за всей твоей казной,И помню только то, что власть твоя со мной[Фонвизин 1959, 1: 209].Ванька, кучер Фонвизина, говорит:
На все твои затеиНе могут отвечать и сами грамотеи.И мне ль о том судить, когда мои глазаНе могут различить от ижицы аза!..Москва и Петербург довольно мне знакомы,Я знаю в них почти все улицы и домы.Шатаясь по свету и вдоль и поперек,Что мог увидеть я, того не простерегВидал и трусов я, видал я и нахалов,Видал простых господ, видал и генералов;А чтоб не завести напрасный с вами спор,Так знайте, что весь свет считаю я за вздор…Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.Затем Ванька добавляет:
Да, сверх того, еще приметил я, что светСтоль много времени неправдою живет,Что нет уже таких кащеев на примете,Которы б истину запомнили на свете.Попы стараются обманывать народ,Слуги – дворецкого, дворецкие – господ,Друг друга – господа, а знатные бояряНередко обмануть хотят и государя;И всякий, чтоб набить потуже свой карман,За благо рассудил приняться за обман…За деньги самого Всевышнего ТворцаГотовы обмануть и пастырь и овца![Фонвизин 1959, 1: 210–211].Фонвизинский лакей Петрушка называет мир «ребятской игрушкой» и говорит, что секрет жизни таков:
Лишь только надобно потверже то узнать,Как лучше, живучи, игрушкой той играть.Что нужды, хоть потом и возьмут душу черти,Лишь только б удалось получше жить до смерти!На что молиться нам, чтоб дал Бог видеть рай?Жить весело и здесь, лишь ближними играй.Петрушка представляет Бога бессмысленно жестоким:
Создатель твари всей, себе на похвалу,По свету нас пустил, как кукол по столу.Иные резвятся, хохочут, пляшут, скачут,Другие морщатся, грустят, тоскуют, плачут.Вот как вертится свет! А для чего он так,Не ведает того ни умный, ни дурак[Фонвизин 1959, 1: 211–212].В завершение стихотворения рассказчик-хозяин подтверждает вывод Петрушки: «А вы внемлите мой, друзья мои, ответ: / “И сам не знаю я, на что сей создан свет!”» [Фонвизин 1959, 1: 212].
В «Послании к слугам» Фонвизина представлены четыре типа отношений к сотворенному миропорядку: нежелание Шумилова познавать Божий замысел, осуждение мира как места эксплуатации и обмана у Ваньки, гедонизм Петрушки и недоумение рассказчика по поводу цели творения. В «Чистосердечном признании» Фонвизин утверждал, что некоторые стихи «Послания» «являют тогдашнее мое заблуждение, так что от сего сочинения у многих прослыл я безбожником». Однако он считал обвинение в безбожии ошибочным: «Но, Господи! тебе известно сердце мое; ты знаешь, что оно всегда благоговейно тебя почитало и что сие сочинение было действие не безверия, но безрассудной остроты моей» [Фонвизин 1959, 2: 95]. Литературовед Рассадин предположил, что критическое отношение Фонвизина к «Посланию к слугам» «могло быть и не вовсе искренним», учитывая, какую гордость Фонвизин испытывал за это свое стихотворение [Рассадин 2008: 83–84]. Советские интерпретаторы также в общем были склонны считать стихотворение «памятником русского философского свободомыслия XVIII века» [Пигарев 1954: 78], в котором Фонвизин «высмеивает основы церковного учения и защитников религии, проповедующих божественную мудрость в создании мира и человеческого общества» [Макогоненко 1961: 21].
На мой взгляд, обвинение Рассадина в том, что Фонвизин неискренне сожалел о своем «заблуждении», не имеет под собой оснований, если «заблуждение» сводилось к недоумению по поводу бесцельности сотворенного миропорядка. Рассадин и сам признает: «богохульствовали и святые – они, быть может, более других» [Рассадин 2008: 80]. Ему бы следовало только добавить, что святые, как никто другой, в итоге сожалеют о том, что порицали Божью мудрость. Был ли Фонвизин последователен в том, чтобы сожалеть о своем «заблуждении» и при этом гордиться самим стихотворением – другой вопрос. Как литературное произведение, рассматриваемое с точки зрения формы, «Послание к слугам» замечательно ясностью повествования, использованием простонародной речи, социальной критикой, легкостью интонации. Не зря им восхищался Пушкин, а раз так, то почему бы Фонвизину не дорожить своим творением, пусть даже оно плод «заблуждения»?23
Было ли тем не менее «Послание» Фонвизина «памятником русского философского свободомыслия XVIII века»? Ответом на этот вопрос должно быть категорическое «нет». Ничего «философского» в стихотворении нет: в нем просто пересказываются существующие способы отношения к сотворенному миропорядку. Пигарев обратил внимание на статью А. Т. Болотова 1764 года «О незнании нашего подлого народа», в которой Болотов сообщает о разговоре двух слуг, который жаловались друг другу на хозяев. Затем один призывает другого терпеливо переносить тяготы, уповая на милость Божию. Второй слуга отвечает, что подумывает о самоубийстве. По словам Болотова, в христианские представления о теле и душе, бессмертии души и воскресении из мертвых ни тот ни другой не верил. Более вероятным они считали, что после смерти душа переселяется в животное или в другого человека. Болотов был потрясен таким невежеством относительно религиозных догм, пока один из его друзей не сказал ему, «что между подлости едва ли сотого человека сыскать можно, который бы о бессмертии души твердо удостоверен был» [Пигарев 1954: 76–77]. Возможность того, что «Послание» Фонвизина в значительной степени передает народные настроения, следует рассмотреть серьезно, поскольку первый слуга, упомянутый в стихотворении, – Михаил Шумилов – носит то же имя, что и реальный камердинер Фонвизина [Фонвизин 1959, 2: 610].
Нельзя также считать, что язвительность кучера Ваньки в отношении священников-обманщиков доказывает антиклерикальную позицию самого Фонвизина, или что критика жадности священников свидетельствует о его «вольнодумстве». Как мы уже видели, критика неподобающего поведения священников – почтенная тема русской литературы, которую можно обнаружить еще в «Слове Даниила Заточника», произведении XII века. Священническое корыстолюбие подвергалось поношению в «Сказании о попе Саве» (XVII век) [БЛДР 2010, 16: 412–414]. Таким образом, критика священников в «Послании» Фонвизина не должна непременно рассматриваться ни как «новая» или «современная» тема, ни как проявление тогдашнего вольнодумства. Жалобы на алчность и обман священников следует скорее рассматривать как «нормальную» черту христианского государства, в котором Церковь обладает институциональными полномочиями, а некоторые священники не соответствуют своему духовному призванию. Что было действительно новым во времена Фонвизина, так это юношеское глумление над небезупречными церковниками – модное поветрие, к которому присоединился Фонвизин, опубликовав свое стихотворение, и о котором впоследствии сожалел.
Фонвизинский перевод «Альзиры» сделал доступной для русских театралов лучшую из пьес Вольтера – драму об испанском завоевании Южной Америки и насильственном «обращении» перуанцев в христианство. Как считал Вольтер, военное завоевание Перу было жестоким и бесцеремонным, но еще более тягостным для перуанцев было навязывание им христианства. Драму насильственного обращения Вольтер показывает, заставляя главную героиню пьесы, девушку Альзиру, отречься от торжественного обещания выйти замуж по обычаям местной религии за своего возлюбленного, Замора, и сочетаться браком с испанцем Гусмано по европейскому обряду. В пятом явлении пятого действия Альзира говорит Замору:
Но верой Християн плененный разум мойВ ней зрел, иль чаял он в ней зреть закон святой.Уста мои богов сего отвергли мира;В том внутренно себя не обвинит Альзира.Но отрещись богов, которым сердцем чтят,Не заблуждение, но подла сердца яд,Пред лицемерием измена сокровеннаДля бога избранна, и бога отрешенна,Ложь пред вселенною, пред небом и собой[Вольтер 1811: 61–62].В предисловии к трагедии Вольтер пишет, что своей пьесой он пытался показать, «насколько истинный дух религии превосходит природные добродетели». Он утверждал, что религия варвара состоит в принесении в жертву богам крови своих врагов, но «христианин, получивший плохое наставление, вряд ли более справедлив». В пьесе защищается то, что Вольтер называет «истинным христианством», то есть религия, которая «состоит в том, чтобы ко всем людям относиться как к братьям, делать им добро и прощать их преступления» [Voltaire 1908: 1]. Глашатаем «истинного христианства» в трагедии выступает стареющий Альвар, бывший правитель Перу, который к финальной сцене пьесы склоняет и испанских завоевателей, и перуанцев к своей религии добродетели. В заключительных строках пятого действия Альвар говорит: «Зрю Божий перст в бедах, что рок на нас навлек. / Отчаянный мой дух ко Богу прибегает, / Который нас казнит, и купно нас прощает» [Вольтер 1811: 66].
Если Фонвизин разделял религиозное мировоззрение Альвара, то он не объявлял себя ни атеистом, ни антихристианином, а, скорее, критиковал существующую христианскую церковь во имя подлинных христианских идеалов. Если позиция Фонвизина была такова, обвинение в вольнодумстве в его адрес несправедливо.
Возможно также, что свой перевод пьесы Вольтера об испанских завоевателях Фонвизин задумал как назидание русским, правительство которых покорило столько степных нехристианских народов. Если так, то перевод был предостережением против применения силы во имя Бога, критикой русской религиозной «тирании» на юге. Пигарев отмечает, что в переводе Фонвизиным речи Альвара в третьем явлении четвертого действия явственно читается обличение колониального деспотизма, которого нет в оригинале Вольтера. В переводе Фонвизина Альвар заявляет: «Неограниченну зришь власть тиранов сих, / Им кажется, что сей и создан свет для них, / Что власти должен быть злодейской он покорным» [Пигарев 1954: 66]. Перевод Фонвизина говорит читателям о том, что тираническая власть иногда опирается на религиозное заблуждение.
При внимательном рассмотрении оказывается, что в «Послании к слугам» и в переводе «Альзиры» Вольтера Фонвизин выступает не поборником грубого атеизма, а сторонником более справедливого общественно-политического устройства России, основанного на «истинном христианстве». Говоря языком персонажа «Братьев Карамазовых» Достоевского, молодой Фонвизин усомнился не в Боге, а в Его мире. Однако не стоит преувеличивать скептицизм Фонвизина по отношению к миру. В его великолепном переводе «Иосифа» Битобе в девяти песнях (оригинал опубликован в 1767 году, перевод Фонвизина – в 1769 году) воспевается божественная мудрость и добродетельная жизнь, которая, невзирая на испытания, полагается на веру [Bitaubé 1767; Фонвизин 1959, 1: 443–606]. Даже в первые дни египетского плена Иосиф у Битобе отвергает искушение пролить кровь своих господ, ибо верит, что все пути – Божьи.
Таким образом, уже в 1769 году Фонвизин искал выход из своих религиозных метаний. В «Чистосердечном признании» он рассказывает о своем потрясении от кощунства графа П. П. Чебышева, обер-прокурора екатерининского Святейшего Синода (!). По совету сенатора Г. Н. Теплова, убежденного православного и критика модной безрелигиозности, Фонвизин прочитал книгу Самуэля Кларка «Доказательства бытия Божия и истины християнския веры» (1705), направленную против подразумеваемого безбожия Гоббса и Спинозы. В книге Кларка утверждалось, что, правильно применив человеческий разум, можно доказать существование Бога и обосновать нашу обязанность поклоняться Ему. Кларк нападал на тех мыслителей, которые сомневались в Боге, как на любителей порока, разврата и власти. Он также пытался показать, что Бог, присутствуя в пространстве и времени, способен в любой момент вмешаться в сотворенный мир. Конечной целью его книги, вероятно, было утверждение божественной свободы и реальности сотворения человеческой природы по образу и подобию Божьему24. Фонвизин был настолько впечатлен рассуждениями Кларка, что подумывал перевести «Доказательство» на русский язык [Фонвизин 1959, 2: 104–105]25.
В «Чистосердечном признании» Фонвизин пишет о Теплове, что тот «достойно имел славу умного человека». «Разум его был учением просвещенный» [Фонвизин 1959, 2: 102]. Следует подчеркнуть, что Фонвизин использует слово «просвещенный», поскольку в данном контексте оно подразумевает как светскую ученость (знакомство с западной философией), так и религиозную образованность (в смысле разумной верности христианству). Такое употребление термина свидетельствует о том, что Фонвизин в 1769–1770 годах не рассматривал просвещение и религиозную веру как бинарную оппозицию.
Бригадир
«Бригадира» Фонвизин написал в тот момент, когда еще не пришел к окончательному разрешению своих религиозных сомнений, но был на пути к этому. Он был еще молодым человеком, склонным острить в адрес своих товарищей и «всего святого». Те, кто стал мишенью его сатирических высказываний, считали его «злым и опасным мальчишкой», но сам он видел себя иначе, а именно как человека с добрым сердцем, который «ничего так не боялся, как сделать кому-нибудь несправедливость» [Фонвзин 1959, 2: 90]. Что неудивительно, критические замечания в адрес религии проникли в пьесу Фонвизина, но религиозное лицемерие он критиковал в контексте более широких проблем.
Как и многие другие молодые писатели, свое первое большое произведение Фонвизин построил на материале, взятом отчасти из его собственной жизни. Гневные вспышки бригадира в пьесе отражают вспыльчивый характер отца Фонвизина, а также холерическую натуру самого Фонвизина. Семейное неблагополучие в пьесе перекликается с платонической любовной интрижкой, которую Фонвизин имел в Москве с девушкой, пожилая мать которая слыла «набитою дурою». По его признанию, эта женщина «послужила мне подлинником к сочинению Бригадиршиной роли» [Фонвизин 1959, 2: 89].
Комедия «Бригадир» описывает семейную жизнь дворянской семьи в те времена, когда практика браков по расчету подвергалась нападкам со стороны сторонников брака по пылкой страсти и романтической любви. В начале пьесы члены семьи бригадира – сам бригадир, бригадирша и их сын Иванушка – только что приехали в деревню к друзьям – советнику, его жене и их дочери Софье. Советник с женой обещали выдать Софью замуж за Иванушку в течение месяца, но ни Софья, ни Иванушка не горят желанием вступать в брак. Софья надеется, что родители разрешат ей выйти замуж за честного человека Добролюбова. Иванушка же смотрит на брак с Софьей скорее как на бремя, чем как на счастливую возможность, но готов пойти на женитьбу ради возможной связи с будущей тещей, женой советника.
Представители старшего поколения выступают за брак Софьи и Иванушки по своим причинам: экономическим, романтическим либо личным. В первом явлении второго действия советник говорит Софье, что она должна выйти замуж за Иванушку за одно «хорошее достоинство» – его «изрядные деревеньки». Советник уверяет дочь: «А если зять мой не станет рачить о своей экономии, то я примусь за правление деревень» [Фонвизин 1959, 1: 62]. Когда Софья замечает, что ее будущая теща, бригадирша, – «хозяйничать охотница» и вряд ли допустит постороннее вмешательство в управление изрядными деревеньками, становится понятен второй расчет советника: он влюблен в бригадиршу. «Я привязан к ее свекрови, привязан очами, помышлениями и всеми моими чувствы… Вижу, что гублю я душу мою» [Фонвизин 1959, 1: 63]. Ослепленный страстью, советник до самого конца пьесы не понимает, что его собственная жена влюбилась в Иванушку. Советница называет Иванушку «трефовый король», «жизнь моя», «душа моя», «полудуши моей». В Иванушке она видит спасение от скуки и неудачного брака. В третьем явлении первого действия она обвиняет мужа в том, что он «повез меня мучить в деревню». По ее словам, советник – «ужасная ханжа», который «скуп и тверд, как кремень», но при этом «не пропускает ни обедни, ни завтрени и думает… что будто Бог столько комплезан, что он за всенощною простит ему то, что днем наворовано». Мужа она называет «мой урод» [Фонвизин 1959, 1: 55]. Бригадир тем временем влюблен в советницу. В четвертом явлении третьего действия он сравнивает ее с «фортецией, которую хочет взять храбрый генерал» [Фонвизин 1959, 1: 80].