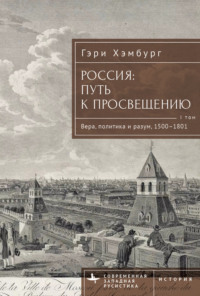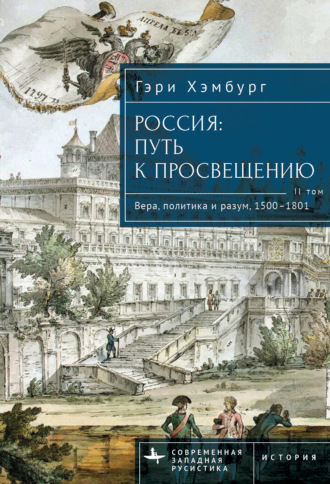
Полная версия
Россия. Путь к Просвещению. Том 2
Размышления Щербатова 1774 года о «Наказе» Екатерины иллюстрируют осторожность элиты в восприятии ее политических взглядов. Приветствуя замыслы императрицы о правовом государстве, веротерпимости и судебной реформе, он тем не менее сомневался в серьезности заявленных ею намерений.
Реакция Сумарокова на «Наказ» после его издания и на роспуск Екатериной Уложенной комиссии в 1768 году выразилась в двух значимых публикациях: пятиактной трагедии «Димитрий Самозванец» (1771) и «Одах торжественных» (1774).
Готовясь к написанию «Димитрия Самозванца», Сумароков обратился за помощью к двум историкам – Миллеру и Щербатову, которые прислали ему копии русских летописей о Смутном времени, а также мемуары французского наемника Жака Маржере [Margeret 1607]. Возможно, Сумароков видел предварительный экземпляр «Летописи о многих мятежах» Щербатова (1771), которая стала одной из первых аналитических работ о Смутном времени, выполненных профессиональным историком [Щербатов 1771]. В драме Сумарокова о самозванце, одном из величайших памятников русской культуры XVIII века, Димитрий изображен как Григорий Отрепьев, узурпатор российского престола и тиран, который не только хотел заставить русских перейти из православия в католичество, но и планировал прогнать законную жену, чтобы жениться на дочери Бориса Годунова Ксении. Своим обличением тирании и мотивом злоупотребления невинной любовью «Димитрий Самозванец» напоминает ранние трагедии Сумарокова «Хорев» (1747), «Гамлет» (1748), «Синав и Трувор» (1751). Однако утверждение о том, что Димитрий – узурпатор, причастный иностранной культуре, намекает на статус Екатерины как узурпатора и пришелицы со стороны.
Уже в первом диалоге «Димитрия Самозванца» Пармен, наперсник Димитрия, говорит самозванцу:
Ты много варварства и зверства сотворил,Ты мучишь подданных, Россию разорил,Тирански плаваешь во действиях бесчинных,Ссылаешь и казнишь людей ни в чем не винных,Против отечества неутолим твой жар,Прекрасный стал сей град темницею бояр[Сумароков 1990: 248].Пармен сетует на то, что Димитрий решил привнести на Русь римско-католическое, польское влияние. Защищаясь от этих обвинений, Димитрий отстаивает абсолютные прерогативы царя:
Российский я народ с престола презираюИ власть тиранскую неволей простираю…Здесь царствуя, я тем себя увеселяю,Что россам ссылку, казнь и смерть определяю.…Перед царем должна быть истина бессловна;Не истина – царь, – я; закон – монарша власть,А предписание закона – царска страсть[Сумароков 1990: 250–251].Во втором явлении первого действия начальник стражи предупреждает Димитрия, что простой народ смотрит на него с ужасом, считая, что он «…безбожия и наглостей рачитель, / Москвы, России враг и подданных мучитель». Димитрий пренебрегает опасностью народного восстания. Он винит Шуйского в том, что тот подстрекает против него «чернь».
По мнению Сумарокова, одним из следствий бессовестного тиранства Димитрия стала привычка придворных к лицемерию. В четвертом явлении первого действия Шуйский притворяется, что считает Димитрия законным царем: «В соборной церкви нам глава твоя венчанна, – говорит Шуйский. – Тираном был у нас злонравный Годунов, / Ты грозен, праведен, отец твой был таков» [Сумароков 1990: 254]. Однако в шестом явлении первого действия Шуйский наставляет чувствительную Ксению: «Когда имеем мы с тираном сильным дело, / Противоречити ему не можем смело». Шуйский советует: «Обманывай его, притворствуй сколько льзя, / Надежду подавай…» [Сумароков 1990: 257]. В первом явлении второго действия жених Ксении Георгий придерживается той же линии: «Язык мой должен я притворству покорить, / Иное чувствовать, иное говорить / И быти мерзостным лукавцам я подобен. / Вот поступь, если царь неправеден и злобен» [Сумароков 1990: 258]. Во втором явлении второго действия, когда Димитрий требует от Георгия отказаться от любви к Ксении, Георгий отвечает: «Не спорю, государь, безмолвствую» [Сумароков 1990: 260].
Политический замысел этих сцен заключался не в прямом сопоставлении Екатерины с Лжедмитрием. Хоть она и узурпировала престол, совершив при этом жестокие деяния, но Димитрий открыто признал свою тиранию, а Екатерина представляла себя как враг тирании. Драматургическая стратегия Сумарокова была, скорее, профилактической: изображая презрение тирана к русскому народу, отождествление закона и монаршей воли, зависимость тирана от западного влияния, реакцию русских на тиранию (народный гнев, бесчестность придворных), драматург зеркально возвращал Екатерине ее собственную критику власти произвола и одновременно предупреждал, что общество может воспринять ее как тирана. В шестом явлении второго действия Сумароков устами Пармена выражает свой страх перед издержками произвола: «…жестокости всегда на троне те ж, / Приводят город весь во ярость и мятеж» [Сумароков 1990: 264].
В третьем явлении первого действия Пармен усиливает обвинительный пафос пьесы по отношению к тирании, указывая на отсутствие у Димитрия оправдывающих его добродетелей.
Когда владети нет достоинства его,Во случае таком порода ничего.Пускай Отрепьев он, но и среди обмана,Коль он достойный царь, достоин царска сана.Но пользует ли нам высокий сан един?Пускай Димитрий сей монарха росска сын,Да если качества в нем оного не видим,Так мы монаршу кровь достойно ненавидим,Не находя в себе к отцу любови чад.Коль нет от скипетра во обществе отрад,Когда невинные в отчаянии стонут,Вдовы и сироты во горьком плаче тонут;Коль, вместо истины, вокруг престола лесть,Когда в опасности именье, жизнь и честь,Коль истину сребром и златом покупают,Не с просьбой ко суду – с дарами приступают,Коль добродетели отличной чести нет,Грабитель и злодей без трепета живетИ человечество во всех делах теснится, —Монарху слава вся мечтается и снится.Пустая похвала возникнет и падет, —Без пользы общества на троне славы нет[Сумароков 1990: 267–268].В пятом явлении третьего действия Димитрий показывает, насколько он далек от добродетели:
Блаженство завсегда весьма народу вредно:Богат быть должен царь, а государство бедно.Ликуй монарх, и всё под ним подданство стонь!Всегда способнее к труду нежирный конь,Смиряемый бичем и частою ездоюИ управляемый крепчайшею уздою.На возражение Георгия: «Способствует трудам усердье и закон» Димитрий отвечает: «Самодержавию к чему потребен он? / Узаконения монарши – царска воля» [Сумароков 1990: 271–272].
По мнению Сумарокова, когда правитель уклоняется от добродетели, его подданные освобождаются от обязанности повиноваться ему и говорить правду. Иными словами, теоретически исповедуя идеал добродетельного гражданина, Сумароков признавал, что при тирании добродетельное поведение может быть контрпродуктивным. В третьем явлении третьего действия Шуйский заявляет: «Кто силе уступать при нужде не умеет, / В развратном мире жить понятья не имеет» [Сумароков 1990: 267].
Эти речи показывают, как сочетались у Сумарокова расчет с политической добродетелью. В глазах подобных ему религиозных россиян не имело значения, как государь восшел на трон, лишь бы он, придя к власти, шел по пути добродетели. По мнению Сумарокова, добродетельный царь должен говорить правду, помогать вдовам и сиротам, защищать имущество от воров, способствовать правосудию. Таким образом, сумароковский «добрый царь» вписывался в классическое православное определение праведного государя. С другой стороны, по Сумарокову, в условиях тирании стремление к добродетели практически бессмысленно, поскольку выживание для граждан важнее, чем хорошее правительство. Сделав эту уступку мировому злу, Сумароков вплотную подошел к отказу от христианских представлений о добродетели в пользу «Мировой скорби» (Weltschmerz).
Это непростое сочетание действительной политики и добродетели в политическом мышлении Сумарокова привело к вопросу о ценности монархии по сравнению с другими формами правления. В пятом явлении третьего действия на эту тему высказывается Георгий:
Самодержавие – России лучша доля.Мне думается, где самодержавства нет,Что любочестие, теснимо, там падет;Вельможи гордостью на подчиненных дуют,А подчиненные на гордых негодуют.Не сын отечества – отечества злодей,На троне ищущий из подданных судей.Правленья таковы совсем России новы,Коль нет монарха в ней, власть – тяжкие оковы.Несчастна та страна, где множество вельмож:Молчит там истина, владычествует ложь.Благополучна нам монаршеска держава,Когда не бременна народу царска слава[Сумароков 1990: 272].Если в России нет реальной альтернативы монархии, если подданные должны быть «во всем царю подвластны», как утверждают герои Сумарокова, то это все же не означает, что правитель может игнорировать врожденную свободу человека. Георгий спрашивает Димитрия: «Но Бог свободу дал Своей последней твари, / Так могут ли то взять законно государи?» [Сумароков 1990: 273]. Он напоминает Димитрию, что в некоторых отношениях властители и подданные равны:
Цари и цесари колико ни преславны,Но в нежности любви и раб и цесарь равны.Людей боготворит едина только лесть;Несходны должности – и различная честь,Определенная достоинству награда…Во всех нас действует равенственно природа…[Сумароков 1990: 274].Здесь герой Сумарокова иными словами выражает взгляд диакона Агапита на правителя как на человека возвышенного и смиренного одновременно. Однако он дополнил Агапита, добавив постулат естественного права о том, что все существа рождаются свободными.
Присущее человеку стремление к свободе, вероятно, объясняет поведение двух главных героев «Сумарокова»: Ксении и ее жениха Георгия. Хотя они и обещали Шуйскому скрывать свое отвращение к тирании Димитрия, но в итоге им этого не удалось. В десятом явлении четвертого действия Ксения решила сохранить верность Георгию и из-за этого принять мученическую смерть от рук Димитрия. Она восклицает: «Чай, мерзостный тиран, и жди достойной мзды! / В геенне соберешь насеянны плоды» [Сумароков 1990: 285]. В пятом действии народ Москвы восстал против тирана и осадил его в Кремлевских палатах. В заключительной сцене Пармен объявляет окруженному царю: «Прошли уже твои жестокости и грозы! / Избавлен наш народ смертей, гонений, ран, / Не страшен никому в бессилии тиран». Услышав эти слова, Димитрий вонзает кинжал себе в грудь: «Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!» [Сумароков 1990: 292].
Такая развязка не была нетипична для драм Сумарокова, где герои обычно кончали жизнь самоубийством. Наложение рук на себя и последовавшее духовное самоубийство Димитрия говорят в пользу того, что настоящим наказанием за тиранию драматург считал вечные адские муки. Но подобное «решение» проблемы тирании Сумароковым оставило без ответа политические вопросы. Что делать, если тиран действительно наглый безбожник, о чем в первом действии подозревают простые люди? Разве не будет такой неправедный правитель упорствовать в злодеяниях, поскольку страха перед загробной жизнью у него нет? И даже если злодей осознаёт перспективу вечных мук, как Димитрий в пятом действии, может ли эта перспектива изменить его политическое поведение к лучшему? По собственной логике Сумарокова, разве не будет он упорствовать в неправедном правлении до тех пор, пока его не свергнут посредством революции снизу? Разве столь удачно случившееся в пятом действии самоубийство не маскирует того факта, – который Сумароков не хотел признавать, – что в его воображаемом царстве главным героем является простой народ?
В «Димитрии Самозванце» Сумарокова мы видим грозный, но неудовлетворительный ответ на «Наказ» Екатерины и отстранение от работы Уложенной комиссии. Своей драмой Сумароков действительно давал императрице понять, что разочарован ее неспособностью законодательно защитить образованные слои россиян от произвола, но в то же время обнажил противоречивость своей политической философии. Его благородные герои порицали тиранию, но не были готовы без колебаний устранить тирана. Они признавали обязанность во всем повиноваться правителю, но рассуждали при этом о естественной свободе. Они принижали простой народ, но рассчитывали, что он совершит то, на что они сами неспособны. Благодаря своему возвышенному настрою пьеса была прекрасно принята в театре – «Димитрия Самозванца» продолжали ставить до конца века. Однако маккиавеллизм в ней противоречил авторской теории добродетели. Какими бы ни были ее недостатки, пьеса указала на разрыв между Сумароковым и его царственной покровительницей. Как отмечает литературовед Е. П. Мстиславская, «к концу 1768 – началу 1769 г. относится время разочарования Сумарокова в политике Екатерины II», – то есть сразу после того, как императрица не оправдала его надежд на реформирование политического строя [Мстиславская 2002a: 26]6.
Второй ответ Сумарокова на «Наказ» и роспуск Уложенной комиссии можно найти в «Одах». Между 1755 и 1775 годами Сумароков опубликовал 33 оды по торжественным поводам. После его смерти издатель Н. Новиков переиздал их во втором томе собрания сочинений Сумарокова [Сумароков 1781: 3–154], однако еще при жизни, в 1774 году, Сумароков напечатал 30 од. Мстиславская, проведя исследование политического содержания од, назвала их важным источником по истории XVIII века; она даже утверждала, что «книга Сумарокова “Оды торжественные” представляет нам поэта как первого русского историографа, воссоздавшего картину историко-политического процесса в России XVIII века» [Мстиславская 2002б: 69–70]. По мнению Мстиславской, издав в 1774 году оды с I по XXX, Сумароков сократил те, что были посвящены «Наказу» Екатерины (оды XIV–XVI) и Уложенной комиссии (оды XV–XX), прежде всего опустив строки с безоговорочными восхвалениями императрицы и описанием ее политических инициатив. В то же время Сумароков сохранил те фрагменты од, в которых была сформулирована его собственная просвещенческая политическая программа [Мстиславская 2002б: 63–65]. В оде XXVIII, адресованной в 1774 году молодому наследнику Павлу, Сумароков создал образ идеального князя, который «не гордясь ничем вовек, / Он больше о себе не мыслит, / Льстец мерзкий что б ему ни рек. / Великий муж не любит лести». Идеальный князь, как утверждал Сумароков, «тверд во правде пребывает, / И крайне мерзостен народ, / Который правду забывает» [Сумароков 1781: 138–140]. Хотя Екатерине в этой оде досталась скупая похвала как «Минерве», в целом ода свидетельствовала о принадлежности Сумарокова к придворной «партии» Павла.
Издание «Од» 1774 года также представляло своего рода отклик Сумарокова на «Наказ» Екатерины, и этот отклик она восприняла более болезненно, чем пьесу «Димитрий Самозванец». Она читала первоначальную редакцию «Од» и поэтому не могла не заметить изменений, которые Сумароков внес в издание 1774 года, чтобы продемонстрировать свои сомнения по поводу ее политических намерений. 4 января 1775 года она в гневе приказала цензорам Академии наук проверять все дальнейшие сочинения Сумарокова [Мстиславская 2002б: 40]7.
Прежде чем оставить вопрос о Екатерине как о политическом мыслителе, следует вспомнить еще о трех ее проектах в этой сфере: покровительство сатирическому журналу «Всякая всячина» (1769–1770), «Записки касательно Российской истории» (1787–1794), а также антимасонскую кампанию в публицистике 1780-х годов.
Из всех этих предприятий наиболее известна ее роль как главного покровителя (и, возможно, автора) «Всякой всячины». После роспуска Уложенной комиссии в 1769 году Екатерина учредила журнал «Всякая всячина», поручив его надзору своего личного секретаря Г. В. Козицкого. По мнению советского литературоведа Д. Д. Благого, инициатива императрицы была следствием политических обстоятельств, когда «каждый из борющихся классов стремился использовать оружие сатиры в своих целях… Екатерина… предприняла хитро задуманную попытку подчинить себе эту силу, прибрать ее к рукам, направить по определенному, соответствующему ее политическим видам руслу» [Благой 1955: 227]. По мнению Благого, взявшись за издание «Всякой всячины», Екатерина «на самом деле преследовала цель погасить сатиру, всячески притупить ее общественно-политическую остроту, отвести ее от конкретных явлений русской социальной действительности, подменив моралистическими общими местами, школьными прописями, направленными против так называемых общечеловеческих недостатков [Благой 1955: 231]. Благой отметил, что тон, а иногда и содержание «Всякой всячины» были «прямым заимствованием» из журнала «Зритель» Аддисона и Стила.
По мнению Благого, главной политической задачей «Всякой всячины» была попытка оправдать решение императрицы о роспуске Уложенной комиссии и возложить вину на самих депутатов: в иносказательной «Сказке о кафтане» Екатерина порицала «портных» (депутатов), которые «вместо того чтобы сшить “мужику” кафтан из данного им на то “сукна” (очевидно, имеется в виду пресловутый “Наказ”), начали спорить о его покрое» [Благой 1955: 231–232]. Кроме того, во «Всякой всячине» предпринималась попытка задать жесткие параметры русской сатире, фактически деполитизировав ее. Так, в письме в редакцию, опубликованном в выпуске 53, псевдонимный корреспондент «Афиноген Перочинов» кратко изложил правила исправления человеческих пороков: «1) никогда не называть слабости пороком, 2) хранить во всех случаях человеколюбие, 3) не думать, чтоб людей совершенных найти можно было, и для того 4) просить Бога, чтоб нам дал дух кротости и снисхождения» [Благой 1955: 236]. Благой признавал, что со временем во «Всякой всячине» появились нападки на взяточников и недальновидных чиновников, но объяснял эти действия давлением других сатирических журналов, в частности «Трутня» под редакцией Николая Новикова.
Мнение Благого о «Всякой всячине» заслуживает внимания как типичный пример стратегии осмеяния и неприятия журнала как прогрессивными дореволюционными критиками, так и учеными советского времени. Однако, каковы бы ни были литературные достоинства журнала, «Всякая всячина» реализовала одну из ключевых стратегий Екатерины – использование культурных инициатив для подготовки умов россиян к реформам, вписывающимся в русло умеренно-политических воззрений Просвещения. Одним из примеров такой стратегии был «Наказ» с его либеральными заимствованиями у западных мыслителей, другим – «Всякая всячина» с ее «заимствованиями» из «Зрителя». Во «Всякой всячине» Екатерина пыталась убедить своих небезупречных подданных становиться лучше, глядясь в «западное» зеркало. Ее замысел заключался в искусственном создании публичного пространства, состоявшего из «Всякой всячины» и конкурирующих журналов, в котором императрица за спиной Козицкого, анонимных авторов и корреспондентов под псевдонимами, смогла бы дискутировать со своими подданными как «частное» лицо. Эта литературная тактика, в которой важную роль играли анонимность и возможность правдоподобно отрицать свою причастность, требовала от императрицы невиданного для российской государыни акта самоотречения. Пусть Петр Великий и работал бок о бок с простыми плотниками и кораблестроителями, но он никогда не подвергался настолько резкой критике, которую императрица выносила от других сатириков, находясь за спиной своих подручных. Эксперимент Екатерины требовал огромного самообладания, которое нечасто было присуще российским самодержцам8. Еще более важным, чем акт самоотречения, был сам творческий прием – основание сатирического журнала и призыв к подражанию, направленный на создание сферы общественной мысли «сверху».
Несмотря на мнение Д. Благого, мы считаем, что инициатива Екатерины была направлена на то, чтобы в «новом» публичном пространстве сатирических журналов продолжить дискуссию о крепостном праве, начатую в Уложенной комиссии. Ее аллегорическую «Сказку о кафтане» можно прочесть также как сказку о крепостном праве, в которой мораль состояла в том, что «портные» должны бы сшить крестьянину новый кафтан, пока он не замерз на улице. Она надеялась, что сказка напомнит русским дворянам об их этических обязанностях перед крестьянами. Она не позволила бы публикацию сказки, если бы не осознавала, что она запустит новый виток дискуссии в конкурирующих журналах. На этом этапе у Екатерины, вероятно, не было конкретной законодательной программы, кроме той, которая была четко сформулирована в «Наказе» – а именно, обеспечить исполнимость закона Петра против жестокого обращения с крепостными – похвальная, хоть и ограниченная, цель. Между тем приписывать, подобно Благому и иже с ним, одному Новикову первенство в постановке вопроса о крепостном праве перед лицом «реакционного» режима – значит не понимать пафоса позиции Екатерины и не отдавать должное ее незаурядному политическому воображению.
Прежде чем оставить тему императрицы как журналиста, следует обратить внимание на ценное замечание Иоахима Клейна о том, что екатерининская «Всякая всячина» и конкурирующие журналы, редактируемые Николаем Новиковым, опирались не только на английские образцы, такие как «The Spectator» («Зритель»), но и на немецкие – так называемые Moralische Wochenschriften, или «нравоучительные еженедельники». По мнению Клейна, журнал Екатерины, как и немецкие еженедельники, преследовал дидактические цели – наставить читателей в правилах добродетельной жизни, в любви к добру и отвращении к злу. Более того, как и в немецких еженедельниках, во многих статьях «Всякой всячины» использовалась диалоговая форма для вовлечения читателя в активное общение с морализирующими авторами журнала. Клейн считает, что, хотя метод воспитания активной читательской аудитории, позаимствованный Екатериной у немцев, был известен уже давно, сама диалоговая модель, в которой создавалась «атмосфера игривого вымысла и веселой анонимности, атмосфера коммуникативной непринужденности и свободы», была для России чем-то новым [Клейн 2006: 155].
По мнению Клейна, игривый дух «Всякой всячины» не соответствовал «утопическому» замыслу журнала – скорейшему искоренению порока в читающей публике. Он приводит заметку редактора, в которой тот заявляет: «Мы не сомневаемся о скором исправлении нравов и ожидаем немедленно искоренения всех пороков» [Клейн 2006: 157]. По мнению Клейна, ожидания редактора основаны на представлении о том, что порочное поведение человека – это результат неправильного воспитания. Эту проблему Екатерина собиралась исправить не только посредством строительства школ, но и путем передачи читающей публике «моральной информации», необходимой для добродетельной жизни. Редактор «Всякой всячины» исходил из того, что знание ведет к добродетели, а невежество – к пороку. Редактор предсказывал, что распространение знаний и добродетели среди читающей публики вскоре приведет к появлению добродетельных должностных лиц: «…если в должностях употребляемы будут люди с воспитанием и со знанием, менее услышим о корыстолюбии» [Клейн 2006: 159]. По мнению Клейна, концепция добродетели, положенная в основу «Всякой всячины» и других журналов, опиралась не только на православные представления о благочестии, но и на философские представления о счастливой жизни [eudaimonia], разработанные в античности и возрожденные в XVIII веке. Клейн, однако, утверждает, что из-за акцента на добродетельном поведении не в монастырях, а в гостиных и в правительстве концепция добродетели журнала «Всякая всячина» приобретала скорее «мирской», чем чисто религиозный характер. «В России, – отмечает Клейн, – слово “добродетель” было известно из церковнославянской письменности, но в XVIII в. оно наполняется новым содержанием в соответствии с секуляризационными тенденциями петровской и послепетровской России, превращаясь в эквивалент английского virtue и немецкого Tugend» [Клейн 2006: 161].
Интерпретация Клейна согласуется с мнением лингвиста В. М. Живова, который предположил, что в своем журнале императрице удалось создать новую форму просветительского дискурса: «Выворачивая французские просвещенческие концепции наизнанку, Екатерина устраняет из них главенство закона. Его место занимает “доброе сердце” императрицы». Эта позиция «удобно располагает к определенному авторитаризму, приобретающему оттенок домашнего и терпимого» [Живов 2007: 264–265]. По мнению Живова, Екатерина проводила эту стратегию систематически. Знаменитое письмо Афиногена Перочинова, о котором шла речь выше, призывало читателей думать не о выкорчевывании глубоко укоренившихся пороков, а об исправлении понятных человеческих слабостей. В другом номере «Всякой всячины» было опубликовано стихотворение, в котором Петр I противопоставлялся Екатерине. В заключительной строке поэт заявляет: «Петр дал нам бытие, Екатерина душу». Из стихотворения следовало не только то, что Екатерина важнее Петра (поскольку душа важнее бытия), но и то, что она, в отличие от Петра, осознала приоритет национальной культуры над политикой [Живов 2007: 254–258]. Во «Всякой Всячине» также было напечатано письмо от имени «Патрикия Правдомыслова», начальные пассажи которого написала сама Екатерина. В письме Правдомыслов наставляет читателей: «Желательно было бы, чтоб мы всегда свои дела судили сами по истинне: и тогда бы ябеда и прихоти исчезли; следовательно меньше бы жалоб было на неправосудие». «Любезные сограждане! Перестанем быть злыми, не будем имети причины жаловаться на неправосудие» [Всякая всячина 1769–1770: 279–280; Живов 2007: 263]. Основываясь на внимательном прочтении «Всякой всячины», Живов утверждает, что «противоположение законов и нравов позволяет Екатерине снять с себя ответственность за беззаконие… Развращение идет не от системы и не от правительства, а от дурных нравов». Поэтому главная обязанность императрицы заключается не в издании хороших законов, а том, чтобы подавать добрый пример подданным [Живов 2007: 263–264].